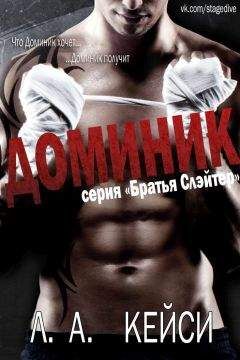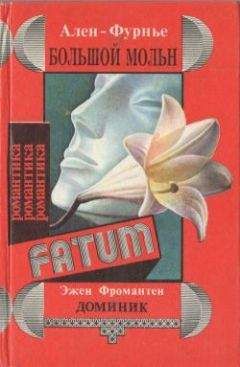Борис Тарасов - Чаадаев
Неоднозначное поведение друга продолжает «язвить воображение» Петра Яковлевича, хотя он еще не потерял надежды приобрести в его лице мощнейшего союзника. Потому он и со своей стороны старается посвящать Пушкина в «тайну времени». Процитированным письмом он сопровождает посылку книги Ансильона «Мысли о человеке, его отношениях и интересах», надеясь, что она пробудит в поэте «несколько хороших мыслей». К последним Чаадаев относил подчеркнутые им рассуждения о современном слиянии религии, философии, искусства, социальных устремлений, о присутствии духа божия во всех движениях человеческого рода, способного к бесконечному совершенствованию.
Когда же в конце 1829 года Петр Яковлевич окончательно отредактировал первое философическое письмо и немедленно стал распространять его, он в ближайший же приезд Пушкина в Москву весной 1830 года ознакомил его со своим произведением.
Исследователи обычно относят к середине 1831 года выход Чаадаева из затворничества и начало его активной проповеди. Однако проповедь началась гораздо раньше, да и затворничество периодически нарушалось, чему способствовали также советы лечивших его врачей рассеиваться и развлекаться. Московское общество постепенно начинало знакомиться в списках с философическими письмами. Д. Н. Свербеев вспоминал: «Я читал некоторые из «Писем» Чаадаева, плод его 2-годичного строгого уединения в Москве, 1827–1829 годах, и все они были довольно запутанного содержания. Но одно из них (1-е), конечно, самое замечательное своей оригинальной резкостью, еще в рукописи и на французском языке производило величайший эффект».
Именно «оригинальная резкость» первого философического письма (мало кто пытался вникать в «запутанное содержание» остальных) и в последующем производила повсюду «величайший эффект», в том числе и среди старых аристократов, которых Петр Яковлевич выделял своим вниманием. И. А. Арсеньев, отмечавший у Чаадаева «чрезвычайно приятную наружность» и манеры «французского аристократа старых времен», в своих мемуарах рассказывает, как M. M. Солнцев, муж родной тетки Пушкина, привез к ним однажды в дом и «рекомендовал как замечательного по независимому уму человека» Петра Яковлевича Чаадаева, известного сочинителя письма о России, познакомившегося у нас с Николаем Ивановичем Надеждиным, который бывал у нас очень часто и которого отец мой очень любил». Знакомство с Н. И. Надеждиным окажется в грядущие годы чреватым весьма важными для Чаадаева последствиями. Пока же его внимание более занимают другие гости семейства Арсеньевых. Заикающемуся князю Д. М. Волконскому, отставному генерал-лейтенанту и георгиевскому кавалеру, есть что вспомнить. В свое время император Павел Петрович приказал ему снарядить корабль и захватить остров Мальту. Англичане, чей флот оказался по соседству, взяли Волконского в плен, и он, по словам Арсеньева, «оставался в плену, по собственному желанию», пока на престол не взошел Александр I. Колоритна была и фигура камергера Солнцева. Толстый, постоянно пыхтевший, чванливый и всем недовольный, он, замечает мемуарист, «спорил, что называется, «до риз положения». Особенно интересен для Петра Яковлевича его недавний знакомец М. А. Салтыков, 63-летний потомок московских бояр, оказавшийся в фаворе у Екатерины II и состоявший действительным камергером при дворе Александра I. Среди гостей, собравшихся к Арсеньевым «на рассольник с рубцами» по случаю первомайского гулянья в Сокольниках, оказался и Пушкин, который попросил Волконского прочитать сочиненные поэтом стихи на Солнцева:
Был да жил петух индейский,
Он цапле руку предложил,
При дворе взял чин лакейский
И в супружество вступил.
«Когда съели жаркое, — пишет И. А. Арсеньев, — и ждали сладкое, Волконский вынул из кармана стихи Пушкина и стал читать их, беспрестанно заикаясь и повторяясь. Эффект оказался грандиозным: сидящие за столом, в особенности Чаадаев, не могли удержаться от гомерического смеха; даже наш француз гувернер Фесшот, невзирая на природную ему серьезность и обязательную «комильфотность», не вытерпел и, желая залить смех, поперхнулся и брызнул красным вином на свою тарелку». Разозленного «петуха индейского» долго отпаивали в соседней комнате холодной водой с сахаром и флер-д'оранжем; а поэт тем временем «улетучился, очень довольный придуманным им фарсом, чуть было не разыгравшимся крайне печально, потому что Солнцев долго хворал после этого»… Однако уже на следующий день Пушкин повез дядю к своей невесте, сожалея, как он сообщил Вяземскому, что представляет его не «в прежнем виде, доставившем ему камергерство. Она более благоговела бы перед родственным его брюхом».
Весной и летом 1830 года светлые и грустные думы Пушкина целиком заняты предстоящей женитьбой, новыми размышлениями о пройденном жизненном пути, завершившимися осенним творческим всплеском в Болдине. Именно там он станет углубляться и в мысли переданного ему Чаадаевым для прочтения первого философического письма. Пока же Пушкин осторожен в суждениях, старается не беседовать с другом на серьезные темы (что последнему рекомендуют и врачи), советуется с М. П. Погодиным, спрашивая его в июне: «Как Вам кажется Письмо Чаадаева?» Ознакомил Погодина с произведением Петра Яковлевича, видимо, сам поэт, еще полтора года назад рассказывавший ему о знакомстве его автора с Шеллингом (высоко почитавший немецкого мыслителя Погодин тогда вознамерился завести переписку с Чаадаевым, которая отложилась на долгое время и до других обстоятельств). Возможно также, что письмо попало к Погодину через московские салоны, где имело уже широкое хождение и привлекало к автору любопытное внимание.
VI глава
НЕУДАВШАЯСЯ ПРОПОВЕДЬ
1
Сам Петр Яковлевич, едва поставив окончательную дату под первым философическим письмом (1 декабря 1829 года), пожелал иметь читательское мнение о нем. Вероятно, его первым читателем оказался наиболее доступный по обстоятельствам жизни в эту пору, лечивший его знаменитый врач М. Я. Мудров, по словам биографа, уже к началу Отечественной войны бывший «первым медицинским светилом в Москве».
Один из виднейших представителей русской терапевтической школы, с 1819 года директор Клинического института при Московском университете, Мудров внедрял в сознание студентов принципы глубинного изучения и лечения больных с учетом важнейшего значения духовно-нравственных и социально-психологических факторов.
Мудров был глубоко благочестивым и добрым человеком, хотя, говорят, и тщеславился своими работами и званием. Жалея многочисленных бедных пациентов, с богатых, однако, брал изрядные суммы.