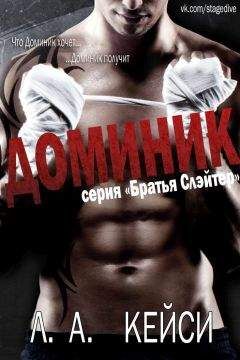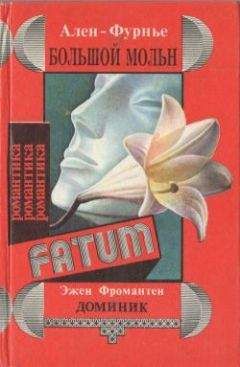Борис Тарасов - Чаадаев
Чаадаев видел в целостном духовно-географическом регионе античной культуры страну «обольщения и ошибок, откуда гений обмана так долго распространял по всей земле соблазн и ложь».
Общее отрицательное воздействие античности, вошедшей через науку, философию, литературу эпохи Возрождения жизненно деятельным элементом в состав нашего разума, он считал столь великим, что сомневался даже в своей излюбленной идее непрерывного и последовательного движения человечества к «высшему синтезу»: «Чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь великое испытание, через всесильное искупление, которое весь христианский мир испытал бы во всей его полноте, которое на всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще оскверняющей нашу память».
Каждому народу, замечает он, необходимо рассмотреть различные эпохи его прошлой жизни, уяснить особенности своего настоящего существования, чтобы проникнуться предчувствием и в какой-то степени «предугадать поприще, которое ему назначено пройти в будущем». В ходе подобного осмысления, пишет Чаадаев, у всех народов выработалось бы подлинное национальное самосознание, заключающее в себе очевидные истины, глубокие убеждения и положительные идеи, освобождающее людей от местных пристрастий и заблуждений и ведущее их к одной цели. Только от такого самосознания, замечает он, а не от успехов просвещения вообще, как полагали декабристы, зависит «гармонический всемирный результат», когда нации могут протянуть друг другу руки в «правильном сознании общего интереса человечества», совпадающего с «верно понятым интересом каждого отдельного народа», поскольку деятельность и частных индивидов, и великих человеческих семейств обусловлена личным чувством обособленности от остального рода, а также осознанием вполне самостоятельного существования и призвания.
«Итак, — подытоживает автор, продолжая аналогию между индивидуальным и коллективным бытием, — космополитическое будущее, обещанное нам философией, не более как химера. Надо заняться сначала выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической нравственности, надо чтобы народы сперва научились знать и ценить друг друга совершенно так же, как отдельные личности, чтобы они знали свои пороки и свои добродетели, чтобы они научились раскаиваться в содеянных ими ошибках, исправлять сделанное ими зло, не уклоняться со стези добра, которою они идут… лишь в ясном понимании своего прошлого почерпнут они силу воздействовать на свое будущее».
Чаадаев как бы возвращается к разговору о личных проблемах «дамы», о противоречиях в судьбах России, о европейских достижениях, но уже на основе всего круга пройденных размышлений. Поэтому первое философическое письмо с его тезисами и выводами может быть прочитано вслед за седьмым, как его логическое продолжение. Поставив ряд волнующих его проблем в эмоционально-публицистическом ключе, автор словно требует их повторного и более широкого рассмотрения в свете беспристрастного знания.
А в восьмом, и последнем, философическом письме, отчасти носящем методологический характер, он пытается несколькими словами объяснить необходимость этого приема в своей проповеди уже не только индивидуальным своеобразием корреспондентки, как в первом, но и особенностями современного духовного состояния вообще. Сейчас, в эпоху хиреющего чувства и развившейся науки, нельзя, по его убеждению, ограничиваться упованием сердца и слепой верой, а следует «простым языком разума» обратиться прямо к мысли, «говорить с веком языком века, а не устарелым языком догмата», чтобы с учетом всевозможных настроений и интересов «увлечь даже самые упорные умы» в лоно «христианской истины».
В заключение автор провозглашает: «Истина едина: царство божие, небо на земле, все евангельские обетования — все это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого бога, иначе говоря — осуществленный нравственный закон. Вся работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалипсический синтез».
6
Удалившись от московского общества в 1828–1830 годах, Чаадаев в основном завершил работу над циклом философических писем, что явилось для него событием огромного значения, дающим сознание личностной полноты и твердости нового социального качества и способным вывести из тяжелого кризиса.
Именно в это время полностью оформился замысел и написана существенная часть цикла, авторское понимание своеобразия которого передано им позднее в послании к Вяземскому: «Точка зрения, с которой я рассматриваю свой предмет, мне кажется оригинальной, и, на мой взгляд, она способна внести некоторую ясность в мир философский, а пожалуй, и в мир социальный, так как оба эти мира в наше время, если только я грубо не ошибаюсь, составляют один общий мир».
Чтобы довести свою убежденность до сознания современников, Петр Яковлевич испытывает потребность искать союзников, разумеется, не только и не столько среди женщин, сколько в главных умственных силах русского общества. Одной из них является бесспорная, но загадочная для Чаадаева сила переменившегося Пушкина, чье чтение «Бориса Годунова» долго не выходило у него из головы. Поэт был, пожалуй, единственным человеком, кем «угрюмый нелюдим», как выражался о Петре Яковлевиче его племянник, не переставал интересоваться в самую тяжелую пору своих переживаний.
Несомненно, Петр Яковлевич весьма рассчитывал на мощь поэтического выражения Пушкина в распространении среди соотечественников своей «одной мысли». Когда-то он «поворотил на мысль» юного поэта, увлекая его либеральными идеями. Но тогда было время, напишет он автору «Бориса Годунова» в 1831 году, «немногого стоившее» — «с ложными ожиданиями, обманчивыми предчувствиями, лживыми грезами счастливого возраста неведения». Теперь же, думает Петр Яковлевич, надо внедрить в сознание зрелого писателя «одну мысль».
Чтобы понять реакцию Пушкина на новую проповедь старого друга, превратившегося из гусарского офицера с задатками Брута и Периклеса, из бесстрастного наблюдателя ветреной толпы в религиозного философа и аналитика мировых эпох, необходимо учитывать определенные особенности творческой личности поэта и его художественных задач в последнее десятилетие жизни.