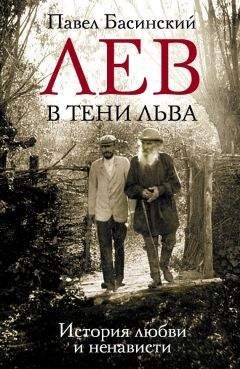Павел Басинский - Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды
И наконец, совсем невероятной видится сцена на кресте. Иисус Христос в книге Толстого отвечает разбойнику, просящему Его о милости не здесь, но в Царстве Божьем («Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»): «Истинно говоришь, теперь (курсив мой. – П.Б.) ты со мной в раю» (вместо: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю»). То есть страдающий человек, который корчится на кресте и которому осталось жить на земле совсем немного, в отчаянии последней надежды просит помиловать его там. На что Христос отвечает: всё в порядке, не волнуйся, ты всё правильно говоришь, мы с тобой уже находимся в раю.
Неужели сам Толстой не чувствовал этого вопиющего противоречия между просьбой и ответом? Наверное, чувствовал. Во всяком случае, в своей работе над переводом Евангелия он постоянно испытывал, так сказать, сопротивление материала.
В воспоминаниях учителя И.М.Ивакина, с которым Толстой советовался как с филологом, показан процесс работы писателя. «С самого первого раза мне показалось, что, начиная работать над Евангелием, Лев Николаевич уже имел определенные взгляды… Научная филологическая точка зрения если и не была вполне чужда ему, то во всяком случае оставалась на втором, даже на третьем плане… Историческую, чудесную, легендарную сторону в Евангелии, как известно, он совершенно устранял, считал неважной, ненужной.
– Какой интерес знать, что Христос ходил на двор? – говорил он. – Какое мне дело, что он воскрес? Воскрес – ну и господь с ним! Для меня важен вопрос, что мне делать, как мне жить?!
Он очень не жаловал Ренана, да, кажется, и Штрауса за то, что они обращали внимание именно на фактическую сторону в Новом Завете. Ренана он особенно не любил еще и за то, что от “Жизни Иисуса” отдавало будто бы парижским бульваром, за то, что Ренан называл Христа “charmant docteur”[19], за то, что “в переводах его из Евангелия всё так гладко, что не верится, что и в подлиннике так…” Он имел в виду только нравственную, этическую сторону… Иногда он прибегал из кабинета с греческим Евангелием ко мне, просил перевести то или иное место. Я переводил, и в большинстве случаев выходило согласно с общепринятым церковным переводом. “А вот такой-то и такой-то смысл придать этому месту нельзя?” – спрашивал он и говорил, как хотелось бы ему, чтоб было… И я рылся по лексиконам, справлялся, чтобы только угодить ему, неподражаемому Льву Николаевичу… Как рад он бывал, если что скажешь насчет его работы, особенно если не согласишься с ним (несогласие он относил насчет того, что я бессознательно проникнут церковностью)! Он весь превращался в слух, так и впивался в тебя… Иное дело, если кто начинал оспаривать его взгляды в корне, в основе, – тут не обходилось без крика, и громче всех кричал Лев Николаевич».
Из этих воспоминаний становится абсолютно понятен метод работы Толстого над переводом Евангелия. Как это ни обидно звучит, но это метод работы начинающего филолога или историка, который ищет в источниках не материал для исследования, а аргументы в пользу своих концепций.
Впрочем, Толстой и не скрывал, что его интерес к Евангелию далек от академического. В предисловии к «Краткому изложению Евангелия» он высказался так: «Я искал ответа на вопрос жизни, а не на богословский и исторический, и потому для меня совершенно было всё равно: Бог или не Бог Иисус Христос, и то, от кого исшел святой дух и т. п., и одинаково не важно и не нужно было знать, когда и кем написано какое Евангелие и какая притча и может или не может она быть приписана Христу. Мне важен был тот свет, который освещает 1800 лет человечество и освещал и освещает меня; а как назвать источник этого света, и какие материалы его, и кем он зажжен, мне было всё равно…»
ПОКРЫВАЛО МАЙИ
Отличие Толстого от многих писателей-современников, не вступавших в конфликт с Церковью, было в том, что у них не было предмета для этого конфликта. Им просто не о чем было с Церковью спорить.
Тетушка писателя А.А.Толстая в своих воспоминаниях пишет о разговоре с Тургеневым, который состоялся за год до его смерти:
«Между прочим, конечно, было говорено и об Л.Т. В то время начинали являться его так называемые богословские сочинения. Тургенев относился к ним с полным негодованием и не мог утешиться, что он оставил литературу “pour écrire de pareilles billevesées”[20], как он выражался.
Заговорили и об Евангелии. Тургенев отнесся к нему с каким-то неприятным пренебрежением, как к книге, ему мало известной.
– Vous n’allez pas m’assurer pourtant que vous n’avez jamais lu l’Evangile?[21] – спросила я.
– Oh, non, il m’est arrivé de lire – je dirai même que st. Luc et st. Mathieu sont assez intéressants; quant à st. Jean – cela ne vaut pas la peine d’en parler[22].
– Helas! – отвечала я с грустью. – Vous ne serez donc jamais que le plus aimable des païens![23]»
Невозможно представить себе Толстого, который поддержал бы такой «светский разговор»!
И вот что интересно.
Тургенев ведь не просто смеялся над религиозными взглядами и богословскими сочинениями Толстого. Они вызывали у него «негодование». В первую очередь это было связано с тем, что Толстой ради религии отказался от литературы. Находясь на смертном одре в Буживале, Тургенев посылает Толстому письмо, в котором умоляет своего собрата по перу вернуться к литературной деятельности: «Ведь этот дар вам оттуда, откуда всё другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует!» Но одной обидой за искусство «негодование» Тургенева не объяснишь.
Духовный переворот Толстого вызвал возмущение у самых разных людей, которые были очевидно далеки от церковной веры. Невольно возникает ощущение, что во взглядах Толстого они увидели какой-то вызов их душевному покою, их разумению жизни.
Один из ярких примеров тому – поэт Афанасий Фет.
В нашу задачу не входит обсуждение весьма сложного мировоззрения этого великого поэта и философа, который первым перевел на русский язык «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, тем более, что мировоззрение Фета еще по-настоящему не исследовано. Но в чем не может быть никаких сомнений, так это в том, что церковное христианство, включая и православие, не имело для него никакой цены, кроме разве способа обуздания грубого народа. В одном из писем к Толстому он называет христианство просто «известным учением», прибавляя, что лично для себя не видит в этом учении никакого проку: «…Что мне следует делать? Если по учению Христа продать доброво<льно> имение и раздать тунеядцам, то я подожду, пока другие это сделают, и, если окажется хорошо, – не отстану». В письме к Страхову, с которым Фет всегда был гораздо откровеннее, чем с Толстым, он скажет: «…Хороший Бог такой противуречивой пакости творить не станет и, следовательно, к творению жидовскому не причастен».