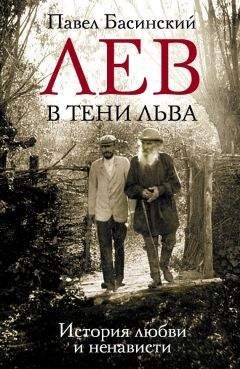Павел Басинский - Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды
Вот как звучит начало этого сюжета в синодальном переводе: «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и ангелы служили Ему». Перевод Толстого: «И был Иисус в пустыне 40 дней, не ел ничего и отощал».
Но дальше, как бы ни хотел Толстой исключить дьявола из сюжета, он вынужден называть его, лишь заменяя более нейтральным «искуситель». Ведь не скажешь: «Голос плоти поставил его на крыле храма…»? У Толстого: «Искуситель привел Христа в Иерусалим и поставил его на на крыле храма и сказал ему: если ты сын Бога, бросься вниз». Но на самом деле, как объясняет он в «Примечании», это был «голос плоти». «Сначала голос плоти рассуждает и говорит: Если бы ты был сын Бога и дух, то ты бы не голодал, а если бы и голодал, то мог бы по своей воле из камней делать хлеб и удовлетворять своей воле. А если голодаешь и не можешь из камня сделать хлеб, значит, ты не сын Бога и не дух. Но ты говоришь, что ты сын Бога в том смысле, что ты надеешься на Бога. И это неправда, потому что, если бы ты надеялся точно на Бога, как сын на отца, то ты бы и не мучился теперь голодом, а прямо бы пустился на власть Божию, и не берег бы свою жизнь, а ты небось с крыши не бросишься…»
И как нам во всем этом разобраться?
Искушение Иисуса дьяволом, несмотря на то, что, как верно пишет Толстой, у дьявола в Евангелии нет внешних признаков, выглядит зримо и достоверно, как разговор Сына Божьего с Божьей же тварью, но падшей и поэтому желающей падения Христа. Разговор же «духа» Христа с «голосом плоти» не выглядит никак, хотя и сопровождается почти галлюцинациями, вроде перемещения в Иерусалим на крыло храма. Остается преположить, что это галлюцинации «отощавшего» человека – что совсем уже абсурдно.
С искушения в пустыне начинается серьезный перекос в толстовской трактовке евангельской истории. С точки зрения Церкви Христос в пустыне победил дьявола, доказав, что Он истинный Сын Божий. С точки зрения Толстого Христос никого не победил. Уничтожить в себе «голос плоти» человек не в силах. «Победы нет ни с той, ни с другой стороны, – поясняет Толстой в “Примечании”, – есть только выражение двух противоположных друг другу основ жизни. И ясно выражена и та, которую отрицает Иисус, и та, которую он избрал… В каждом серьезном разговоре о значении жизни, о религии, в каждом случае внутренней борьбы отдельного человека повторяются всё те же рассуждения этого разговора диавола с Иисусом или голоса плоти с голосом духа.
То, что мы называем “материализм”, есть только строгое следование всему рассуждению диавола; то, что мы называем “аскетизм”, есть только следование первому ответу Христа о том, что не хлебом жив человек».
Это рассуждение Толстого одновременно и противоречит церковному пониманию Евангелия, и опровергает утверждения о том, что Толстой написал какое-то «материалистическое» Евангелие, Евангелие без Бога. Толстой как раз более категоричен в отрицании «материализма» и выстраивает куда более жесткую вертикаль «Бог – человек».
Другое дело, что сам Христос становится у него не Богом, но аскетом, совершившим в пустыне личный духовный выбор между «голосом духа» и «голосом плоти». Но при такой «стартовой позиции» весь дальнейший евангельский сюжет начинает «вести и корчить», говоря словами Н.С.Лескова, правда, сказанными совсем по другому поводу. Сам Толстой оказывается в безнадежной ситуации: он все время должен объяснять читателям (но прежде всего – себе), почему этот аскет совершает то, чего не может совершить, и говорит то, чего не должен говорить.
Христос в понимании Толстого, возможно, и был бы прекрасен как сильный человек с несчастными обстоятельствами своего «позорного» рождения, исполненный высокого духовной полета и любви к людям. Но зачем он творит все эти чудеса, вроде исцеления бесноватых и воскрешения Лазаря? Зачем завещает своим ученикам есть и пить хлеб и вино в его «воспоминание», еще и называя это своим «телом и кровью»?
С чудесами Толстой расправляется просто: вычеркивает их из Евангелия, объявляя все эти места «ненужными» (любимое слово Толстого). Но как быть с Тайной Вечерей? Представить, что аскет будет завещать ученикам есть и пить свое тело и кровь, пусть даже и в символическом виде, пусть даже и в его «воспоминание», совершенно невозможно! И тогда Толстой через сложнейшие смысловые ухищрения, которые он, конечно, объявляет «простыми и понятными», приходит к мысли, что Христос делает это для того, чтобы любовно накормить хлебом и вином предателя Иуду, не отделяя от остальных учеников, но при этом подчеркнуть, что как раз Иуда и будет есть его тело и пить его кровь, совершая свое предательство. Непонятно, чего здесь больше: кощунства или бессмыслицы? Смысл Евхаристии оказывается вывернутым наизнанку. Выходит, что два тысячелетия христиане совершали и продолжают совершать символический акт предательства Христа.
Само собой разумеется, что Толстой завершает перевод Евангелия на смерти Иисуса на кресте.
Все явления Христа своим ученикам и народу после Воскресения, все слова, сказанные Христом, не имеют для Толстого никакого значения, потому что с его точки зрения этого быть просто не могло. Человек не воскресает во плоти. Спорить с этим бессмысленно, но ставка здесь слишком высока, ибо речь идет не о нюансах веры, но о самом пути спасения человеческого.
Тот путь, что выбирает Толстой, – это путь сильного человека, который доверяет своему разуму и отказывается обсуждать то, что находится за его пределами. И не просто обсуждать, но включать в свое разумение жизни. Надо признать, в этом своем выборе Толстой страшно логичен и убедителен. Недаром его учение завоевало умы и сердца многих его современников, включая даже и некоторых священников. Но нельзя и не признать, что в отношении Христа этот метод не работает. Как бы Толстой ни старался убедить нас в том, что на Голгофу с крестом идет пусть и необычный, но все-таки человек и только человек, что на кресте страдает не Господь, а полусирота по имени Иисус, – не только воображение, но и здравый смысл не позволяет с этим согласиться.
Потрясающая душу сцена в Гефсиманском саду, где Христос, дрогнув в своем человеческом естестве, просит Отца Небесного пронести мимо Него «чашу сию», избавить Его, Сына Бога, от человеческих страданий, под пером Толстого снова превращается в «борьбу с соблазнами», как в пустыне. И совсем уже непонятно, откуда в этом аскете столь убежденный фатализм, что он, вместо того чтобы где-то упражняться в «борьбе с соблазнами», добровольно отдает себя на крестную муку? Почему он, «непротивленец», сначала велит своим ученикам вооружиться, а потом опустить мечи (у Толстого ножи)? Отчего такого высокого напряжения исполнен его разговор с Пилатом? Какое дело римскому наместнику до еврейского аскета? Зачем он снова и снова настаивает на том, чтобы его отпустил его же народ?