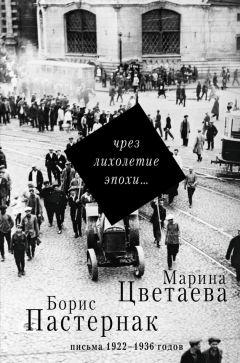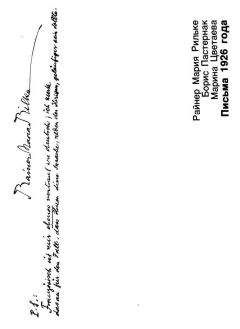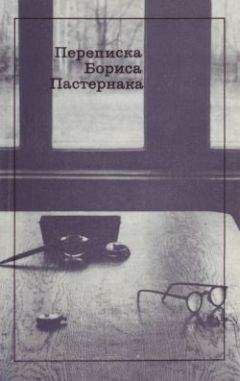Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис Леонидович
Борис, у меня огромная мечта: книгу о Рильке, твою и мою. Вижу ее в переводе на немецкий (ПОДЛИННИК!) и ликую.
Хотя бы ради этого – приезжай.
P.S. Ты всегда мне отправл<яешь> письма —
Приложение
Записи Цветаевой о поэме Пастернака «Лейтенант Шмидт»
<кон. февраля 1927 г.>
Мечта о разборе пастернаковского Шмидта.
Эпос в эпосе. Центральная фигура 1905 г. Наша старая любовь. Неслучайность выбора. Шмидт – законен.
Краткая передача фабулы. Что делает, чувствует и как высказывается в I части Лейтенант Шмидт.
Чувство читат<еля> к Шмидту и к Пастернаку.
Двойств<енное> впечатл<ение>. Стоит только Шмидту замолчать и Пастернаку заговорить… Но – сто́ит только замолчать Пастернаку и заговорить Шмидту. Цитаты.
Явный разлад пишущего с писомым. В чем разлад? Сущность? Проверка. / Основной разлад в слове, пошлейшем в письмах и избраннейшем в опис<аниях>. Лейтенант Шмидт у Пастернака пишет письма так, как вряд ли их даже писал в жизни / точно так же и – посему в тысячу раз хуже, ибо перенес<енные> в стихи общ<ие> мес<та> Шмидта просто станов<ятся> невынос<имыми>.
Каким же языком должен в поэме говорить Шмидт. Шмидтов<ским> – языком 1905 г. – мы в этом убедились – невозможно. Пастернаковским неправдоподобно, ибо как Шмидт Пастернаком не мог бы быть, так Пастернак – Шмидтом. Тогда каким же? Никаким. Шмидт в поэме не должен говорить вовсе. Промах Пастернака – захотел дать Шмидта в слове.
Срифмованная речь лучшего из ораторов – <пошлость?>. За Шмидта, и в ноябрьском митинге, должны бы<ли> бы говорить знамена, деревья, глаза, черноморские волны.
Шмидтовская речь в отражении —
II часть. Пересказ II части. Отсутствие писем. Значительно улучш<илось> состо<яние> больн<ого>.
Письмо 88
<сер. апреля 1927>
Цветаева – Пастернаку
<На экземпляре газеты «Возрождение» от 11.04.27, в которой помещена статья В.Ходасевича «Бесы»:>
Борюшка, как я могу без тебя жить? Как ты – без меня?
Мой новый адрес (перепиши на стену):
Meudon (Seine et Oise)
2, Avenue Jeanne d’Arc
Передай Асе.
Борюшка! Написала тебе два больших письма, – оба лежат. (Современность не есть ли – своевременность?) Третье, ненаписанное, пойдет. Сейчас переписываю II ч. Ш<мидта> для журнала, печатавшего первую. (Огромный успех у героев 05 года!) Вторую простят из-за первой.
Порадуйся на своего protégé [74] Х<одасеви>ча. Отзыв труса. Ведь А<дамо>вич-то (статьи не читала, достану, пришлю) писал о тебе, а этот, минуя тебя, о твоих ублюдках. Жди письма, спасибо за все, целую тебя.
Письмо 89
<ок. 29 апреля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Опять ты со мной, и что в мире может с этим сравниться! Твое письмо пришло как раз в тот день, когда я сдавал весь 1905й (вместе с накануне оконченным Шмидтом) в Госиздат. Я кончил его именно так, как ты о том говоришь, и думаю о нем в точности твоими словами. Я говорю об этом только затем, чтобы ты узнала об этой новой твоей, и может быть, тебе неведомой, помощи. Между прочим. Только «1905-м» я наконец добился тут права первого изданья «Тем и Варьяций», да и то не отдельного, а одним томиком, при «Сестре». Напиши мне поскорее о своем вечере и обо всем обещанном.
Твой Тезей замечателен. Так начинают только единственнейшие. Трагедия взята с места в карьер. Бездна благородной, мерно и без отступлений наслаивающейся правды, и ее вершина – в сцене с Вакхом, о которой просто невозможно говорить. Здесь, на внезапной высоте, отдельно от остальной трагедии и над ней, дается трагедия самой вакхической истины, как нагорное законодательство этого мира.
За «Тезеем» с особой, окончательной категоричностью испытал радость: удивительная, – за что ни возьмется, во всем, везде, – своя рука, свой голос, свой опыт, и все это предельной, несравненной крепости и глубины. Что это особенно заметно в «Тезее», – естественно. Сами по себе эти качества быть может в нем не сильнее, чем в других вещах, но тут они, помимо твоей воли, составляют часть тематики: черта законченной одухотворенности, к которой сводятся они, и есть ведь извечная тема греческого духа. Короче: за этой трагедией я пережил тебя, как героиню: как абсолютно навсегда под собой расписующегося поэта. Разумеется, у меня ее нет, и она гуляет по рукам.
Скажи, как ты думаешь, Марина, можно ли думать о настоящей работе (т. е. о писании в безвестности и вне участия в политлитературщинке какого бы то ни было направленья) во Франции или Германии, или же лучше, скрепя сердце, постараться это сделать за год тут и, значит, отложить еще на год все? Глупый вопрос и заданный в нелепейшей форме, но прошлогодний твой ответ сделал больше, чем могла бы одна моя воля, в одиночестве. Надо ли говорить тебе, как меня тянет к настоящему, т. е. к тебе и ко всему тому, чего я не могу не мыслить обязательно в твоем воздухе? Ты однажды предложила мне просто съездить на время, как ездят сотни путешествующих и благополучно возвращающихся «освеженными». Но ты ведь знаешь, что это абсурд и не про меня никак. Этой муки я не приму.
<На полях:>
Ответь мне сухо и спокойно, как я того и заслуживаю, главное – о себе, о своем вечере. Морального ада и тоски, в кот<орых> я тут варюсь, изобразить не в силах. Не пойми превратно. Я просто задыхаюсь в том софизме, о кот<орый> тут, без всякого последствия, разбивается решительно всякая действительная мысль.
Х<одасеви>ча получил и прочел. Странно, меня это не рассердило. Чепуха не без подлости в ответ на чью-то, м.б. еще большую, чепуху? В<ладислав> Ф<елицианович> меня знает. Странно.
Письмо 90
3 мая 1927 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Пока я занят был этой ретроспективной и ставившей в несколько облегченное положенье к «современности» работой, я все думал, что выровняется и время, и к ее концу, когда станет пора вспомнить о своем, это будет мыслимо, т. е. будет и кругом дышаться свободнее. Поразительно, что как раз с ее концом совпало у меня сильнейшее на этот счет разочарованье. Я не смогу и не сумею пересказать тебе всех случаев, когда я его испытал, они один другого необъяснимее и ужаснее, и только расскажу об одном, потому что он почти что семейный, и люди, в нем замешанные, тебе известны. И для полной ясности: все эти дозы отчаянья и недоуменья сопровождаются вниманьем и исключительною теплотою ко мне, а иногда даже и любовью, т. е. я хочу сказать, что заподозреть себя в пессимизме по личным причинам я не вправе. Изолганности и раболепному лицемерью нет предела. Нравственное вырожденье стало душевной нормой.
Однажды у тебя в Верстах очень хвалебно отозвались о «Лефе». Я никогда не понимал его пустоты, возведенной в перл созданья, канонизованное бездушье и скудоумье его меня угнетали. Я как-то терпел соотнесенность с ним, потому что это чувство ведь ничем и не выделялось из того океана терпенья, в котором приходилось захлебываться. Потом этот журнал благополучно кончился, и я об его конце не тужил. Теперь, скажем, в самые последние годы, мыслимое, слыханное, человеческое возродилось, но, конечно, в узко бытовых, абсолютно посредственных, вторично-рядовых формах, заливающих журналы и разговоры какой-то мозговиной обезглавленного сознанья. Зимой стал снова собираться Леф. Я туда, т. е. на эти ужины, ходил в качестве гостя. Тогда писался Шмидт, и я читал его, и Маяковский объявлял работу гениальной. Ты знаешь, Марина, что я целиком с тобой в сужденьи о вещи, и это слово не должно нас сбивать. Дело не в этом. Я хочу сказать, что не только трогательность Володина отношенья ко мне, но и моя старая любовь к нему (помнишь чтенье в Кречетниковском с Белым?) не могли ослабить моего раздраженного удивленья по поводу их затей и затем вскоре вышедшего журнальчика. О, это не было открытьем для меня, я в 19-м году сказал Маяковскому о 150.000 то, что теперь начинают говорить в печати, но (и с этого я начал письмо) была у меня какая-то смутная надежда, что М<аяковский> наконец что-то скажет, а я прокричу или даже изойду правдой, и – нас закроют или еще что-ниб<удь>, не все ли равно. Вместо этого вышли брошюрки такого охолощенного убожества, такой охранительной низости, вперемешку с легализованным сквернословьем (т. е. с фрондой, апеллирующей против большинства… к начальству), что в сравнении с этим даже казенная жвачка, в которой терминология давно заменила всякий смысл (хотя бы и духовно чуждый мне), показалась более близкой и приемлемой и более благородной, нежели такое полуполицейское отщепенчество. Потом пошли диспуты, на которых официальное болото со своим вечным словарем застоя и лицемерной глухоты разносило крайнюю группу своих неофициальных головастиков. Ты понимаешь, в чем тут дело, и поймешь, как действовала на меня эта вопиющая дичь, как далеко в стороне я от нее ни находился. Для того, что я тебе хочу поверить, сказанного достаточно. Но, подчиняясь тяге фактов, прибавлю еще кое-что. Они знают, что я не с ними. Но Маяковский, нестерпимо цинический в обиходе, меняется в моем обществе, а со мной бывает иногда просто метафизичен. Т. е. он что-то знает обо мне такое, чего не знает Асеев, несмотря на наше давнее приятельство и близость в жизни, не знает, как человек эмпирических температур. Вот отчего, когда в ответ на мое заявленье о выходе из «Лефа», в конце длиннейших, затянувшихся до 6 ч<асов> утра переговоров, последовала с их стороны просьба не оглашать разрыва с ними, ограничась простым и как бы случайным отсутствием в журнале, номер за номером, я с этим примирился, под влияньем какого-то, сквозь все слова пробивавшегося взгляда М., тяжелого и пристально безмолвного, и которым точно говорило его прошлое. – Однажды ты меня удивила и даже обидела, предостерегши от приравниванья М. – Р<ильке>. Неужели ты подумала, что я – нуждаюсь в таком замечаньи? Но я говорю о М. с тобой, и будь жив Р., на третьем разговоре с ним рассказал бы о М. и ему. Вот и все, и это очень много: М. участвует в моей повести, все равно где и в каких годах. Он участвует также и в твоей: ты была тогда у Цетлиных, ты помнишь себя и Белого и Сабашникову, «Человека» и «Войну и Мир». Затем я благодарен ему также за себя и тебя. О существованьи «Верст» (твоих) узнал я от него от первого. Годом раньше я узнал от него о существованьи «Сестры». Ты понимаешь? – Наконец, вне этого всего: смею утверждать, что даже и тебе, тебе, Марина, не может быть полностью известно, в каком отталкивающе чуждом мире я тут живу. Он совершенно беспросветен и особенно ясно беспросветен бывает в свете так наз<ываемых> удач и «успехов». Дооценить этого ты не можешь оттого, что ты, а значит и то, чем я живу, вечно под рукой у себя. Значит, представить себе того, что тебя нету, ты по-настоящему не в силах. Но добро бы хоть как-нибудь (как человек – человека) напоминали тебя тут: строем совести, что ли, языком или логикой, сколь угодно отдаленно и бледно, все равно как. И знаешь, только <подчеркнуто дважды> вот этот взгляд М., когда он безмолвен, как-то в этом отношеньи приемлем, как-то годится, чем-то напоминает о поэте и жизни поэта. Я совершенно не умею говорить о таких промежуточных, растекающихся вещах и, наверно, раздосадую тебя.