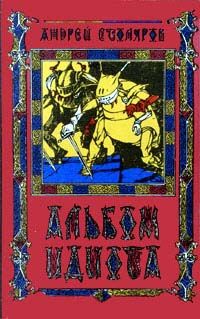Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
– Мы еще вернемся за подснежничками…
Предупрежденный Чертков жил как непредупрежденный. Не замер, говорил и писал что хотел. По-прежнему просветительствовал. Он переписал в Ленинке, я перепечатал и переплел ненаходимые Столбцы и журнальное Торжество земледелия. К нему я прибавил неопубликованные варианты и неизданные стихи из альбомчика Веры Николаевны Клюевой. Мы выпустили бы и по Хармсу и Олейникову, но не хватало на книжку. Зато такого же, как Заболоцкий, я сделал Ходасевича. – Слуцкий дал Европейскую ночь. В голову не приходило, что это и есть изготовление, хранение и распространение плюс группа.
По-прежнему мы ходили в Скрябинку слушать живьем Софроницкого и в записи – новую музыку. Были в консерватории на камерном оркестре Штросса и на единственном выступлении оркестра Большого театра (Мелик-Пашаев, Четвертая Брамса).
Пошли на премьеру квинтета Волконского. В Малом зале присутствовал весь бомонд от Козловского до Фалька. После квинтета, ошарашенные, мы бродили по улицам и спрашивали друг друга:
– А мы чем можем ответить? Есть у нас хоть что-то такого же класса?
Летом пятьдесят шестого мы втроем с Красовицким поехали на Кижи.
В Петрозаводске в ресторане Похьола пьяный поэт Николай Щербаков проклинал судьбу:
– Коля Заболоцкий был рыжий и злой. Он взял у меня трубку – английская трубка, – а его посадили. Трубка пропала. В сорок первом я попал в плен, и Твардовский украл у меня идею: Василий Теркин. Это же я придумал. Если бы я не попал в плен…
На Кижах при закате каждая травинка стояла отдельно. Трое с ружьями проводили нас неодобрительным взглядом. Прекрасные двухэтажные избы почти все заколочены.
Хозяйки рассказывали:
– Трое с ружьями, куторы на вас глаза вывалили – председатель, бригадир и милиционер. Что не так – по укнам стреляют. У войну финны усех у город вывезли. Вси там и остались. Народ зади́кался. Домов много пустых. Покупают их и увозят на ма́ндеры. Дом – вусемьсот рублей. Погост рабочие пять ли лет поновляют. Главы крыть – лемехи нужно, а их резать умеет удин старичок досюльный. На лодучке приезжает. Посла умериканского привозили. Рабочих заперли, сказали не выходить. А сюда пустили песню и пляску с города. Трактор завели – палатку свалили, чтоб посол чего не увидел. Нунько за всем в магазин на мандеры. У кого теличка, хто рыбку на крючок подмолит. А суп йисть – с войны забыли. Раньше мы были богатые…
За бутылку, с нами же и распитую, сторож пустил нас в двадцативуглавую Преображенскую церковь. Пили мы натощак, и фигуры в иконостасе зашевелились.
– Может, так и надо, – предположил Чертков.
Трое это два и один. Один был я – и поделом.
Весной на литобъединении обсуждали Красовицкого. Я готовил аргументированную хвалебную речь. В коридоре за час-два сказал Стасю:
– Не подведем!
Подвел – я, да еще как. Не знаю, что на меня нашло. Вдруг подумалось: а стихи у него корявые. Чужие слова – торчат. Рифмы хромают. Целые строки – строкозаполнители. Много Мандельштама и обериутов. Образы разношерстные, плохо увязаны между собой и т. д. К обсуждению я был уверен: стихи никуда не годятся. И сказал это не в доверительном разговоре, а вслух перед врагами. Осчастливленный Гришка Левин воспарил до доноса:
– Я всегда говорил, что мы должны ненавидеть этот город, который заговорил петуха. Такие стихи мог писать Володя Сафонов из Дня второго!
К ночи или наутро туман рассеялся. Как теперь смотреть в глаза Стасю, как будет он смотреть на меня? Но он, человек формы, сделал вид, что ничего не случилось. Стихи он писал свои самые лучшие.
Я ушел в себя, сидел дома. Вяло складывалось беззвучное, блеклое – читать никому не хотелось.
Попереводил для печати. Не шикарную Америку/Англию ве́ка – в издательствах были сплошь народы эсэсэр и народная демократия. Слуцкий выделил мне что почище – демократические подстрочники. Чертков узнал – взбеленился. Он был прав: весной я предал Стася, сейчас – нашу общую заповедь, бескорыстие.
Венгерские события мы не могли пережить порознь:
– В Будапеште горит музей. Там Брейгель!
После Венгрии мы с Леней полдня бродили по задворкам Ново-Песчаной. Он был на пределе, говорил то ли мне, то ли себе, то ли на ветер:
– Поплясать на портрете! Может, за это и жизнь отдать стоит?
– Там, где поезд поближе к финской границе, – спрыгнуть и напролом…
В Суэцкий кризис у себя, в Библиотечном, он на собрании крикнул:
– Студенты должны сдавать сессию, а не спасать царя египетского!
На даче Шкловского он разгулялся. Шкловский ринулся его перегуливать и замитинговал на крик. Серафима Густавовна ушла от греха. Может быть, дача прослушивалась.
Ни с чего мне начал названивать один из курьезных востоковедов. Зазывал в компанию, в ресторан, в театр, на девочек.
Эрик Булатов, участник голодного бунта в Суриковском, сказал мне, что его таскают. Расспрашивали про меня. Под ударом – Чертков.
Я вызвонил Леню, мы встретились. Изложил, не ссылаясь на источник. В сумерки, в снегопад мы долго ходили по центру. Я не мог отделаться от ощущения, что за нами все время следует заснеженная фигура, то женская, то мужская.
Поздно вечером одиннадцатого января мне позвонила одна из мансардских девиц:
– Леня не у тебя? Такой ужас! Такой ужас! Меня вызывали на Лубянку, спрашивали про Леню. Я не знаю, что говорила. Надо предупредить. Если он позвонит…
Черткова арестовали 12 января 1957 года.
1983–92
Портреты
Дать человеку выговориться,
зафиксировать текст,
привести в порядок,
давая себе воли не более,
чем гиперреалист,
работающий с фотографией.
Есть и другие способы.
нумизмат
(Разговоры 1969–79)
Я был дома один день! И в этот день утром приходят трое. Я подумал, товарищи с периферии. Показывают удостоверение: МУР! Майор и два капитана. – За что мне такая честь?
Майор и капитан к шкафчику, другой капитан смотрит письменный стол:
– Советские награды вы тоже собираете?
У меня наград порядком. Боевых! Я говорю:
– Посмотрите поглубже, там удостоверения.
– А откуда у вас столько денег?
Это сберкнижки. Двадцать шесть с половиною тысяч тугриков в монгольской валюте.
– Посмотрите, там рядом квитанции.
Я пьятнадцать лет сдавал Косте Голенко в музей все, что не идет – средневековые денарии, брактеаты, медали. Квитанций на двадцать пьять тысяч.
Майор смотрит коллекцию, видит, что это не Рио-де-Жанейро, спрашивает:
– Что это у вас столько медяков?
Ему наверно рассказали, что у меня сплошь царские десятки. Я объяснил. Он, вроде, неплохой дядька, звонит в МУР. Я слышу:
– Да нет. Совсем не то. Никакой валюты. Что значит страшный человек? Ничего подобного. Привезти не могу, он постельный больной. Вчера выписался из одной больницы, завтра ложится в другую. Направление есть…
Страшный человек – это я. А он понял, что не тот Юрий Милославский. Но что от него зависит? Вот посмотрите, копия протокола: изъято монет желтого металла, белого металла. Если бы не направление, меня самого бы изъяли. Шкафчик опломбировали. Когда ушли, я пломбу снял, вынул все самое ценное, что не взяли – потемневшее серебро они не заметили, боспорские электры приняли за бронзу, – и на всякий случай переложил в книжный шкаф. Пломбу поставил на место.
В больнице МПС мне удалили правое легкое. Не запущенная пневмония, а канцер. Осталось одно левое, маленькое. Курить категорически запрещено. Я вам передать не могу, как это трудно. После контузии я совсем не сплю – так, два-тры часа; сутками могу не есть – забываю. А курить все время хочу. Психиатр говорит, если я совсем брошу, мне станет резко хуже.