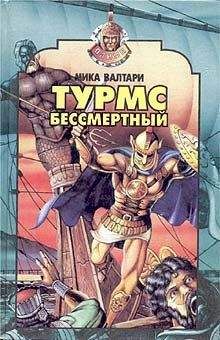Петр Вершигора - Рейд на Сан и Вислу
Переводя мушку левее, на колонну, я в последнюю секунду увидел, как Сашка махнул руками: одной, затем другой. Валятся лошади… И глухой грохот двух ручных гранат сотрясает воздух. Очередь, тряска ручного пулемета, горький дымок из пламегасителя. Ныряют в снег стреляные горячие гильзы. Перед глазами все еще недоумевающий Ясон.
— Вперед! Там Сашка Дончак.
С хуторов бьют уже два ручных пулемета. Потом от штаба забарабанил станковый. Банда рассеивается по бугру и исчезает, скатываясь в лощину.
— Отходят, отходят! — кричит Жоржолиани.
Он проскакал на неоседланной лошади. А когда через несколько минут возвратился, я увидел слезы на его горбоносом лице.
— Зарубили Коженкова Сашку… Зарубили, гады…
Отшвыривает сапогом черепки разбитого им же глека из–под молока и громко, по–детски всхлипывает.
Все это продолжалось не более пяти минут.
Когда опросили двух бандитов, раненных гранатой Коженкова, выяснилось, что прямо в центр нашего расположения въехали остатки банды Сосенко. Они легко проскользнули мимо наших застав боковыми тропами. Заставы принимали их за возвращающийся эскадрон Усача.
Но и бандиты ошиблись. Они ничего не знали о нас и не подозревали подстерегавшей их опасности. Сотня отъявленных головорезов довольно беспечно двигалась обратно на Владимир, откуда по обрывкам подпольной связи получили они сообщение о нашем уходе.
— И надо же случиться, чтобы именно Сашка попался им на пути, — сокрушался Войцехович, забывая, что в противном случае через десять — пятнадцать минут банда была бы возле штаба.
И тут все решил бы злой, коварный пасынок войны — случай. Кто первый сообразит, не растеряется, кто раньше нажмет на гашетку и у кого не дрогнет рука — за тем и верх. Это был бы даже не встречный бой, а просто свалка, поножовщина, драка.
Обошлось… Ценой жизни Коженкова.
А сотня Клеща уходит верхами. Кавалерии для преследования у нас нет. Вот досада!..
Через два часа мы хоронили Коженкова.
— Эх, донской казак. Хороший партизан был, — сказал над могилой Мыкола Солдатенко. — Жил по–казачьи, верхом да с песней… весело. И погиб от сабли…
Люди стояли вокруг свежей могилы молча, словно вспоминая Сашкины танцы, залихватские его дела, озорные глаза и песни.
Салютовали над могилой из автоматов: замполит, начштаба и я. Да из ручного пулемета, скрипя зубами, маленький, юркий Ясон Жоржолиани выпалил в степь полдиска…
Наши батальоны встревожились. После случая с Коженковым приняли за Бандеру Ленкина, возвращавшегося перед вечером из Забужья.
— Второй батальон с переляку обстрелял эскадрон Усача, — докладывал Жоржолиани.
Ленкин соскочил с коня. Размашистой, с приседанием, кавалерийской походкой вошел в штаб. Нагайкой похлопал по порогу. И, играя желваками, остановился.
Он решил, видимо, умолчать об инциденте. Помалкивал об этом и я.
Докладывал Усач в обычной своей манере:
— Дошел до границы. Выполнил приказание. Вернулся.
— Под Жовквой был?
— Был.
— Район — как? Для завтрашней стоянки годится?
— Как следует. Нема ничего. Пусто.
— Не влипнем, как тут? Слыхал?
— Слыхал. Как же… Свои пули над головой свистели. Спасибо пулеметчикам Кульбаки, что с превышением стреляют…
— Брось, ни к чему сейчас это… Наумова видел?
— Только след его. Пошел генерал на Сан. Не то что мы. Пленные немцы показали, что впереди прошла целая кавалерийская дивизия…
«Вот чертов генерал! Хвостатый дьявол… Наверное, уже дошел до Сана», — невольно подумал я, чувствуя опять зависть к Наумову.
— Может быть, и правда пошел на запад… Но до Сана еще не добрался, конечно, — сказал я в утешение себе и другим.
— Да кто его знает, — отозвался Войцехович. — Все ж таки учтите — кавалерия. Во всяком случае, вчера у него справа осталась Рава–Русокая. Теперь, товарищ командир, и нам надо держать ушки на макушке.
— Непонятно, чего мы топчемся на месте? — недовольно пробурчал Ларионов.
Комэск–два недавно опять побывал за Бугом.
— Ну как? Добыл себе седла? — спросил я его.
Махнул в ответ рукой:
— Так, кое–чего…
Я знал его мечту добраться до грубешовских складов, где, по сведениям Мазура, были тысячи настоящих кавалерийских седел. А у нас второй эскадрон ездил пока на седлах самодельных. По этой причине Ленкин не признавал Ларионова кавалеристом. Но грубешовские склады одному Ларионову были не по зубам.
— Когда же все наши батальоны перемахнут за Буг? — допытывался Ларионов.
— Разве не знаете, что Брайко поджидаем?..
— Дождемся… холеры в бок, — усмехнулся Усач. — Уже свои обстреляли. И на дьявола нам с этими бандами волынку тянуть?..
«Как же вам объяснить, хлопцы? Впереди пятачок, маленький плацдарм украинской земли за Бугом. А затем — либо переход границы, либо снова Карпаты… Что вы тогда запоете?…» — думал я, а вслух сказал:
— Не попрем же прямо на Львов?!
— А що вы думаете? — блеснул зубами Усач, и его зрачки заиграли дьявольским блеском. — Там уже есть наши хлопцы. Позавчера во Львове какие–то партизаны ухлопали не то одного, не то двух немецких генералов.
Я посмотрел внимательно на начштаба. Тот подтвердил:
— Разведка пешая вернулась… только что… из–под самого Львова. Действительно, ухлопали там кого–то прямо на тротуаре…
— Кузнецов, конечно. Его стиль…
Сидим, прикидываем, маракуем.
— Вот заскочили в уголочек… — Начштаба чешет затылок. — Хуже чем «мокрый мешок»…
— Там фашисты нас в него загнали, а тут сами полезли, — укоризненно говорит Мыкола Солдатенко.
Впереди — Буг. На следующем переходе не миновать знакомства с этой рекой. Другого выбора нет.
А Усач стоит у двери, помахивая плеткой, и, вижу, никак не может уразуметь, в чем и какое затруднение. Прищурившись, презрительно говорит:
— Тоже мне река. Сколько их осталось, этих рек, позади — Десна, Днепр, Припять, Днестр, Горынь, Стырь, Збруч… Да еще та, карпатская, злая река — Быстрица.
Замечание Усача на миг оторвало нас от мрачных мыслей. Но лишь на миг. А затем мысли опять возвратились к сложной действительности, и я говорю Усачу решительно:
— Не в реке тут, брат, дело, а в границе.
Но Усач, нетерпеливо подрыгивая ногой, гнет свое:
— Вперед, на запад! Ночка темная, кобыла черная. Можно и через границу! — Нагайка Усача извивается, словно эскадрон на переправе. — Ларионов только неделю верхом ездит, и то уже два раза за Бугом был. Просветился, стал по–польски завертать: «проше пана», «паненке целуем ручки»… Улан какой!.. Там, говорят, тридцать две партии было до войны. Или тридцать шесть. Комедия…