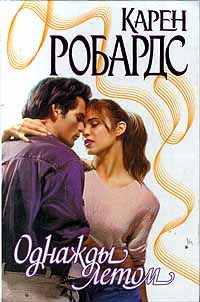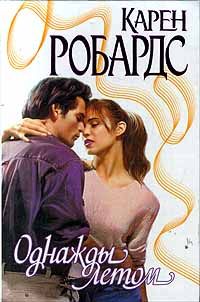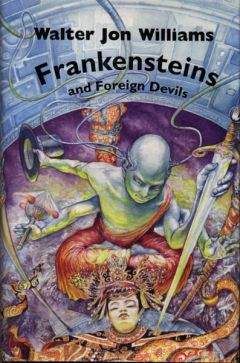Борис Львов-Анохин - Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания
— А ты не думаешь, что актерское начало все-таки возьмет в тебе верх над режиссерским и ты сделаешь плохую картину? И… хорошо сыграешь в этой своей, но плохой картине?..
— Я так не думаю! Потому что как режиссер настолько понимаю себя-актера, что могу сделать хороший фильм.
Вот такие «прицелы» у него были, но Олег даже представить себе не мог, что люди творчества обретут такие свободы, как сейчас. Ведь огромное количество людей так или иначе «раскрепостилось» в той или иной степени. Если бы Олег получил такое, то неизвестно еще, как бы он этим распорядился, но мне кажется, что его ждала не одна большая удача. Он действительно необыкновенно здорово понимал, что такое Актер и что такое Режиссер. Почему он, например, не принимал метода А. Эфроса? Потому что тот его «мял», что Олег и сам признавал. А вот Г. Козинцев был для него эталоном отношения режиссера к актеру. Во-первых, Григорий Михайлович являлся для Олега прежде всего человеком, который очень много знает, узнает и думает над вновь узнанным, чтобы оно стало познанным. А А. В. Эфроса Олег все-таки считал «фокусником». При этом у того была очень хорошая, им самим придуманная, разработанная и апробированная творческая система, вызывавшая у Олега искреннее уважение. Но как человек он оказался для Олега при долгой и тесной работе «простым ларчиком» и именно человечески перестал быть Далю интересен.
Была ли у Олега невоплощенная актерская мечта? Конечно да! Он мечтал сыграть Подколесина, Хлестакова… Очень мечтал играть Гамлета, но довольно быстро отказался от этой мысли, потому что понимал, что возраст берет свое, а эту роль нельзя играть в сорок лет. В этом вопросе Олег был очень строг и щепетилен, считая принца Датского молодой ролью, хотя многие и полагают, что Гамлета можно играть и толстому, и лысому старперу, и даже… женщине. Но у Олега было к этому свое отношение…
Как-то Олег с Лизой уехали надолго (кажется, на какие-то его съемки), а я стала перечитывать любимую мной с детства поэму В. А. Жуковского «Ундина». И она вдруг встала у меня перед глазами как очень красивая киносказка. Я мгновенно засела за письменный стол и перевела все свои «видения» в литературный сценарий. Получилось восемьдесят страниц машинописи.
Когда Олег приехал, я ему сказала:
— Слушай, Олежечка! Я написала сценарий по своей и Лизкиной любимой сказке…
Он прочитал и говорит:
— Ты знаешь… знаешь, для сценария это слишком длинно! Надо сокращать…
— Ну, я же не для чего-то конкретного делала!.. А… как ты относишься к роли этого рыцаря?..
— Нет! Эта роль — не моя!.. Это не моя роль. Это роль… «голубая»… И совершенно без юмора…
— Ну, хорошо! В такую сказку можно юмора пустить сколько угодно… Это уж зависит от режиссера… Да, Жуковский писал это без юмора, но это так красиво!
В итоге мы с Олегом поспорили на эту тему, но, поскольку он отнесся к этой идее равнодушно, я все, к черту, разорвала, и на этом мои «сценарные разработки» закончились…
А вот когда он прочел мою повесть о блокаде, то сказал:
— Ну, тут, конечно, никакому сценаристу делать нечего…
И дал мне очень хороший совет, на который я ему, по-моему, не менее мудро ответила.
— Ты знаешь, Оля, мне все это очень нравится, мне все это очень интересно, но ты должна перемонтировать рукопись. И не в таком повествовательном виде: день за днем…
— Вот если бы я смогла это сделать, то я бы стала писателем!.. А я не умею и пишу так, как вспоминается… как пишется. А «монтировать», перебивать чем-то — не получается.
Но он все равно меня похвалил и сказал, что это интересно уже тем, что там описаны такие факты и случаи, которые ни с кем не произошли и нигде не упомянуты, а все-таки это факты, а не вымысел, выдумка. И прочел он очень внимательно: ушел к себе в кабинет, закрылся и, пока не дочитал, не выходил.
Интересно, что через некоторое время мы с Олегом снова вернулись к разговорам о блокаде. Это было зимой 1979–1980 года, когда он готовился сниматься в картине Н. Бирмана «Мы смерти смотрели в лицо», посвященной балетмейстеру Обранту (в фильме — Корбут), организовавшему в блокадном Ленинграде детский танцевальный ансамбль, выступавший перед бойцами фронта. Олег сразу согласился сниматься и много расспрашивал Лиду Кашину, выступавшую в этом ансамбле, а потом меня о том, что и как я видела в то время. Видимо, рассказ очевидца на него подействовал, потому что он явно использовал некоторые факты для себя в работе. Возможно, даже настоял на внесении изменений в рабочий сценарий. Во всяком случае, в фильме есть моменты, которые для меня являются ожившими цитатами из моей повести. Например, сцена в очереди за водой на Неве. Вообще, в этой картине не было лжи — все строго документально, без сентиментальности и отхода от правды. И об этом писали. Писала и критика, и те, кто был свидетелем показанных событий.
А вот на худсовете «Ленфильма» кто-то из тузов кинематографа посчитал, что «это слишком мрачно». Что поделать, но юмору там и тогда действительно места не было…
Теперь попробую рассказать все, что помню о лермонтовской работе Олега в 80-м году — той записи, которая впоследствии, уже после его кончины, воплотилась сначала в грампластинку, а потом в радиопередачу «Наедине с тобою, брат…».
Прежде всего, важно упомянуть, что у нас было два домашних прослушивания непосредственно стихотворной композиции, хотя Лиза, может быть, меня и опровергнет. Но я так помню. Мы прослушали «чистые стихи» в его исполнении, записанные на кассету, и были совершенно потрясены. Причем Олег при этом присутствовал и наблюдал за нашей реакцией.
Для меня и Лермонтов как-то изменился… Чтоб я так слушала «Выхожу один я на дорогу…»? Такое уж, казалось бы, надоевшее еще по школьным хрестоматиям стихотворение! И вдруг это оказывается чем-то замечательным, потрясающим и… непохожим на самое себя.
Потом Олег, подобрав и записав музыку, снова пригласил нас с Лизой в кабинет. Перед этим мы услышали, как он «химичит» в кабинете с проигрывателем, и я сказала Лизе:
— Ты знаешь, мне это не нравится! Я не люблю чтения стихов под музыку… Я никогда не любила этого и очень жалею, что Олег это делает… Но… очевидно, для него это существенно.
Видимо, еще отец в детстве внушил мне, что сочетание музыки и стихов — это неверно: одно другому мешает. Но когда мы прослушали запись с музыкальным сопровождением, я совершенно отмела все свои опасения и настороженность. Ведь он подобрал такую музыку…
Еще перед тем, как начать работу со стихотворной композицией, Олег записал на ту же кассету поэму Лермонтова «Мцыри». Когда мы ее слушали (все там же, в кабинете, но несколькими днями или неделями раньше), у меня мурашки бегали по коже! Я еле-еле сдерживалась, чтобы не зареветь — иначе нельзя было слушать. Он читал так, словно сам был этим мальчиком и все, что он рассказывает, происходило с ним. И вот теперь — целая музыкально-поэтическая композиция по стихам… Я спросила: