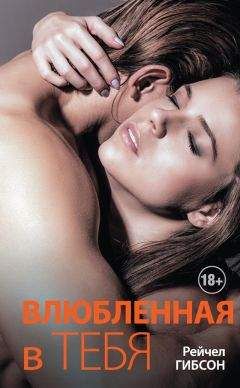Валентина Малявина - Услышь меня, чистый сердцем
Наташа двинулась к ней, а та прямо прилипла к стене и боязливо улыбнулась своим беззубым ртом.
Нет, так не может быть.
Оказывается — может.
Дежурный велел ей выходить и повернул к стенке.
Наташа едва сдерживает слезы:
— Валя, милая, за что? Почему она изменяет мне?
Я ничего не ответила и пошла убирать грязную камеру рыжей, одутловатой женщины. Какая же неопрятная эта рыжая, мужики и те опрятнее. Как хорошо, что у меня перчатки на руках.
Я убрала камеру, а Наташа все возится у своей любимой.
Дежурный привел рыжую и Наташину любовь, и пока впускал и закрывал одутловатую неряху, Наташа успела сказать своей беззубой, пожилой даме, что записка в целлофановом мешочке в туалет опушена вместе с сигаретами и какими-то таблетками.
— Спасибо, — благодарила Наташина любимая.
— Что же ты так? А? — спросила у нее Наташа. — Убила бы я тебя с большим удовольствием, — и Наташа заплакала.
Закрыл дежурный дверь за этой дрянью, а Наташа присела на ведро и плачет:
— Сейчас, командир, сейчас.
Он отошел от Наташи и позвал меня:
— Что с ней?
— Любовь, — говорю.
— К Птичке?
— Нет, к этой, последней, за которой ты только что закрыл дверь.
— Быть этого не может.
— Значит, может, — вздохнула я и попросила: — Ты, пожалуйста, не говори ни с кем об этом.
Убрали мы остальные камеры, попрощались с дежурным и ушли.
Кабинет Подреза с подобострастным увлечением все еще чистили три неприятные физиономии.
Мотина сердито взглянула на нас и приказала:
— Приступайте к уборке.
В кабинете было чисто, и что они возятся в нем так долго?
— Окна, окна мойте, — командует Мотина.
Меня заинтересовали витринки, где под стеклом, как в музее, хранились поделки заключенных. Здесь — Распятия, Кресты, инкрустированные перламутром, кинжалы и ножи с восточными узорами, здесь и трон был черный, блестящий, весь резной, как будто резьба шла по черному дорогому дереву. Трон тоже инкрустирован цветным перламутром.
— Наташа, ты посмотри, какая красота!
Она подошла и стала рассматривать витринки.
— Из чего же они умудряются творить такую красоту? — поинтересовалась я.
— Целлофановые мешки жгут и из полученной черной массы делают вот такие вещи, — пояснила Наташа.
— А перламутр у них откуда?
— Это пуговицы разбитые.
Очень много было шариковых ручек и марочек. Марочки — это рисунки на платочках с библейскими сюжетами, с картинками о любви и пышной красоты цветами.
Иные рисунки — чудо!
А шариковые ручки тоже узорчатые, и их украшают цветные помпончики или кисточки, на некоторых авторучках надписи с пожеланиями свободы и счастья.
Наташа снова поясняет:
— Мужики носки свои распускают и делают узоры на ручках… ну, как ковры ткут… понятно?
Я была рада тому, что Наташа отвлеклась от событий в карцере, и смешливо говорю:
— Надо предложить Подрезу, чтобы в камерах начали ткать ковры! Я сейчас ему записку оставлю с моим предложением, — и направилась к его письменному столу, якобы и вправду собираюсь написать ему послание.
Две противные физиономии замерли.
А Мотина рассвирепела:
— Ты что? Ты что хочешь, чтобы нас убрали с «рабочки» и отправили на этап?
Я уперла кулачки в стол, как это делают докладчики, и серьезно, чуть сдвинув брови, сказала:
— Я уверена, что мое предложение ткать в камерах живописные ковры, Подрезу очень понравится. Дело только останется за доставкой материала, то есть ниток и прочих необходимостей.
Я хотела сесть за стол, как Мотина завопила:
— Нельзя! Нельзя садиться за его стол!
Наташа хохотала, она, конечно, поняла, что я дурачилась, а я была рада тому, что Наташа смеется.
Мотина повернулась к ней и грубо сказала:
— Твой смех глуп, как и твоя выходка с карцером.
— А ты доложи начальнице, — спокойно сказала Наташа.
— У нее обязанности такие. Она отвечает за нас, — вступила в разговор одна из противных физиономий, та, что со мной должна была в карцере работать.
— Молчи, курица. Тебе что, очень хотелось в карцере работать?
Курица хотела что-то сказать, но потом передумала, сделала обиженную гримаску на препротивном лице и стала усердно тереть и без того безукоризненно чистый подоконник.
Наташа подошла к столу, взяла лист, карандаш и стала что-то писать.
Мотина орала, Курица ее просила:
— Не кричи, а то менты услышат.
Наташа поставила точку и бросила листок прямо в лицо Мотиной:
— На! Подавись, сука!
Это было заявление с просьбой отправить ее на этап.
Просьбу Наташи, конечно, удовлетворили.
Прощаясь со мной, она сказала:
— Ты долго не продержишься на «рабочке»: уж очень подлые рожи здесь. Ты не стерпишь. Я боюсь за тебя.
— Не бойся, Наташа. Я постараюсь стерпеть. Мне необходимо быть на свидании с моими родными. Я хочу успокоить их.
— И все-таки напиши «касатку» и скорее уезжай из этого ада, как ты правильно однажды сказала.
Я очень не хотела, чтобы Наташа заговорила о своей любимой, но она сказала:
— Если ты ее увидишь, то скажи, что я очень люблю ее. Скажешь?
— Скажу.
Наташу и нескольких женщин, провинившихся неизвестно в чем и перед кем, увели на этап.
Мне без Наташи погрустнело.
И потянулись дни, похожие друг на друга.
Я начала писать кассационную жалобу в Мосгорсуд. Пишу:
«27 июля 1983 г. Ленинский районный народный суд г. Москвы признал меня виновной по ст. 103 УК РСФСР и назначил мне наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Это случилось через пять лет после нашей трагедии со С. Жданько.
С вынесением приговора я не согласна, поэтому обращаюсь за помощью в Мосгорсуд.
Убеждена, что весь состав суда Ленинского района, в том числе и прокурор, уверены, что в нашей ситуации со Жданько С. А. не было умышленного убийства.
Обвинение остается совершенно бездоказательным. Мотивы, а следовательно, и цель предполагаемого умышленного убийства не выявлены.
Только неопровержимые улики служат доказательством преступления.
Моя судьба вручена вам. Я надеюсь, что вы объективно рассмотрите наше дело и поможете мне…»
Написала я кассационную жалобу довольно быстро, исписав две школьные тетради в линейку.
И стала я с надеждой ждать решения Московского городского суда, потому что на поставленные мною вопросы ответа нет, и, значит, меня могут отпустить домой?..
19
Работа моя была каждый день одинаковой. Утром и вечером я мыла полы длинного коридора Бутырской тюрьмы. Сначала было очень тяжело. Швабра огромная и тряпка большущая, еле двигала я ими по широкому и длинному коридору, но потом приспособилась: разделила коридор как бы на две половины, сначала иду со шваброй в одну сторону, а потом возвращаюсь в другую. Дежурные удивлялись моей сметливости. Все было бы ничего… но у меня стали болеть от холодной воды сначала суставы рук, а потом и ног.