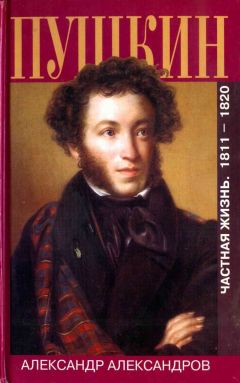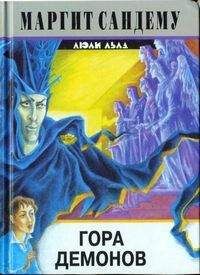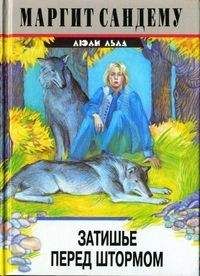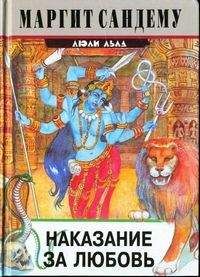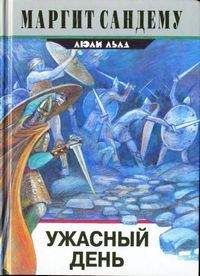Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
— Вон тот старик с красной лентой, это Сегюр. Рядом Буфлер, по левую руку — Сикар… — бросала ему через плечо дама.
— А где Парни, Фонтень? — поинтересовался Батюшков.
— Не видно, — пожала плечами дама.
Вскоре в ротонду под приветственные крики публики взошли император Александр и прусский король, с ними был и генерал Остен-Сакен, генерал-губернатор Парижа.
Публика оживленно обсуждала их; какой-то господин, поправляя галстух, сказал другому:
— Генералу Сакену, я слышал, пожалована от города Парижа золотая шпага с бриллиантами.
Секретарь Академии прочитал государям приветствие.
Потом молодой профессор по фамилии Вильмень, двадцати двух лет от роду, после короткого приветствия государю Александру прочитал конкурсное сочинение, увенчанное в этом году Академией.
После окончания речи президент обнял молодого человека и под шумные рукоплескания публики провозгласил его победителем этого года.
— Как он молод. И уже два раза увенчан Академией, — сказал один из присутствующих мужчин. — Помните, в первый раз это было за похвальное слово Монтеню?
— В котором было так много мудрых мыслей, — добавил другой.
— Немудрено, — едко усмехнулся третий сосед, — ведь он говорил о Монтене и не раз его цитировал.
После заседания Батюшков вышел на улицы Парижа. Каштаны стояли в зеленой дымке. Пахло весной. Он шел и думал, что век французской словесности, верно, прошел безвозвратно, чему немало способствовало тиранское правление Корсиканца. Правление должно лелеять и баловать муз, иначе они будут бесплодны. А Корсиканец вмешивался в дела Академии: он запретил принимать в ее члены Шатобриана, одного из лучших французских писателей, прочитав черновик его речи, всего за несколько неосторожных слов.
На Елисейских полях казаки палили костры и варили в котлах пищу. Играла балалайка, и двое бородатых казаков, раздетые по пояс, с крестами на шеях, плясали в кругу собравшихся товарищей и любопытных парижан.
Уж Париж мой, Парижок, Париж славный городок!
Не хвались-ка, вор-француз, своим славным Парижом!
Как у Белого царя есть получше города…
Балалаечник пел, ударяя быстрыми пальцами по струнам и встряхивая длинными русыми кудрями.
Распрекрасна жизнь Москва, Москва чиста убрана,
Дикаречком выстлана, желтым песком всыпана…
Москва сгорела, и, наверное, поэтому хотелось в Петербург, который в этот момент казался невыразимо прекрасней Парижа. Батюшков вспомнил князя Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого, у которого дом в Москве не сгорел, но который больше не хотел в нем жить, потому что считал оскверненным, продал и переехал в Петербург. «Вот и я подамся-ка в Петербург, хватит с меня: я въехал в Париж в восхищении, — думал он, — и оставлю Парижок, как ласково прозвали его наши солдаты, с великой радостью».
Звук балалайки доносился еще долго, пока он брел по Елисейским полям, где на него заглядывались дамы, сидевшие в этот весенний день на садовых стульях вдоль прогулочных тропинок по сторонам аллеи. Батюшков подумал, что дамы напоминают собою причудливый цветник, высаженный вдоль аллеи, так пестры и разнообразны были их одежды и зонтики. Нет, все-таки Париж хорош, но, братцы, домой хочется.
По тому ли по песочку шел Ванюша, шел-прошел,
Шел Ванюша, шел-прошел, к душе Машеньке зашел:
«Ах ты Машенька, Машуха, Маша горька сирота,
Маша горька сирота, есть горячая слеза…»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
Лицеисты заметно выросли за эти полтора года. Взрослые юноши, иные уже с пробивавшимися усиками и бакенбардами, иные давно брившиеся, одни усердно долбившие камень науки, другие проводившие время в праздности, тем не менее все они шумно и заметно вступали в жизнь. Внимательно и чутко следила за ними светская публика, населявшая Царское Село, поглядывал в их сторону и двор.
Самому старшему из них, сироте Ивану Малиновскому (отец его, директор Лицея, недавно скончался) стукнуло восемнадцать лет. Форма сидела на нем куцевато, на локтях темнели заплатки — никто не заботился о новой; в Лицее экономили и часто формы не меняли, а на юношах сукно горело, как шелк.
Именно в келье Ивана, в лицейском просторечии Казака, и устроили скотобратцы, как теперь называли себя лицеисты, свою очередную сходку, которая, впрочем, отличалась от прежних сборищ намечавшимся потреблением горячительных напитков.
Здесь собрались лучшие из скотобратцев, ушастых и хвостатых, шерстяных и с копытами: вертлявый, с черными усиками, Обезьяна Пушкин, он же Егоза, он же Француз, его же, по стопам Вольтера, называли еще смесью тигра с обезьяной (так, как Вольтер прозвал когда-то французов вообще); Паяс Двести номеров Миша Яковлев, который, как и Обезьяна, ни минуты не сидел на месте; просто Тося, барон Дельвиг, который, напротив, спокойно подремывал на своем месте, полусидя-полулежа на кровати, убаюканный общим гамом; Большой Жанно, он же Иван Великий, любивший изображать своей вздрюченной елдой колокольню Ивана Великого, тоже, как и Казак, сильно выросший из мундирчика; да князь Горчаков, к которому не пристало прозвищ, а мундир, напротив, сидел как влитой, изысканно и щеголевато, как будто сшит был у другого, лучшего портного и из лучшей материи, — вот что делали привитые с детства, а скорее, даже воспринятые с молоком матери безупречные манеры аристократа-рюриковича. Казак генеральствовал над всей этой буйной компанией, нависая своей мощной фигурой и хрипя, как армейский служака на плацу перед солдатами.
Большой Жанно колотил яйца (разумеется, не свои, а куриные) о край миски. Паяс в медной ступке колол сахар, который до него щипцами надкусывал князь Горчаков. Обезьяна крутился под ногами, сгорая от нетерпения, и всем мешал, ничего не делая.