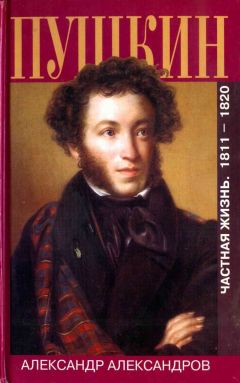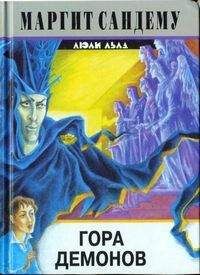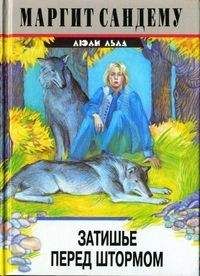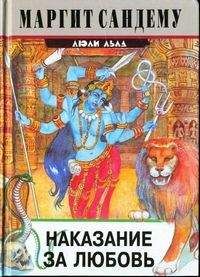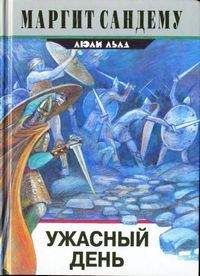Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
Первый тост был за здоровье государя императора Александра Павловича, потом за генерала Раевского, потом тосты посыпались одни за другим, хмелели быстро, хотя ели много.
После шампанского и устриц заказали каплуна, поросенка, потом подряд все, что было; явился один из товарищей, выигравший за стеной в игорном доме кучу денег, за ним — толпа «нимф радости», которых расхватали по столам. Как венец обеда сам господин Verry внес на серебряном блюде индейского петуха, украшенного перьями из его хвоста, и провозгласил:
— Господа, прошу отведать хорошо откормленного иезуита!
Господа офицеры рассмеялись; многие даже и не знали, что это не шутка, что индюки давно прозваны иезуитами, поскольку именно им приписывается разведение заморской птицы во Франции.
Послышались возгласы:
— И мне кусочек жирного иезуита, а мне его ляжку отрежьте, да что ляжку, давай режь всю жирную поповскую жопу!
Батюшков захмелел сверх меры и захотел пышнотелую арфистку, объясняя товарищам, что хочет попробовать, какие она станет издавать звуки, если начать ее пилить. Пипинька пригласил арфистку к столу, но она не хотела оставлять своей арфы, и маленький Пипинька тащил ее перед собой, взяв на грудь тяжелый золоченый гриф.
Офицеры были в восторге от такого обилия жриц любви, кто-то вспомнил, как в немецких княжествах пришлось попоститься, потому что почти все они запретили у себя бордели. В Карлсруэ, столице герцогства Баденского, они никак не могли найти девки, пока ненароком не забрели в зверинец, который содержал принц Баденский; не зверинец, а одно название: четыре обезьяны, пять фазанов и облезлый, чем-то больной бобер.
Около того облезлого бобра и подцепили старую полупьяную шлюху, которая, как все шлюхи в Европе, знала немного по-французски; пришлось всем довольствоваться ею; безобразная старуха знала свое дело туго и обслужила молодежь, стоя на коленках, без отдыха. Глотка у нее была бездонная.
Французские бляди хохотали и успокоили молодых офицеров, что сей способ любви является в их столице излюбленным, и одна из них, уже пьяная, попыталась продемонстрировать его тут же, сползая по панталонам одного из молодцов. Шлюху запихнули под стол, чтобы проспалась, но она столь визгливо взывала оттуда к милосердию победителей, что ее снова пришлось извлечь на свет Божий.
Арфистка снова принялась играть на арфе, а Батюшков загрустил, ему захотелось заплакать, и он прилег арфистке на плечо, шепча ей слова любви на ухо и представляясь Орфеем. Девушка была теплая, дышала жаром, и ему хотелось с ней побыстрее уединиться. Он вспомнил, как в одной германской деревушке подобрался к молодой девушке, спавшей возле печки сидя, и после короткого сопротивления добился от нее всего, чего хотел. Наутро, при свете дня девушка оказалась безобразна, как шестнадцать тысяч чертей, но, словно не понимая этого, строила ему глазки, отчего ее обезьянья морда приобретала даже некоторую миловидность.
Сквозь пелену, застилавшую ему взор, он пытался рассмотреть арфистку, нет ли и тут обезьяны, но ее лицо непознаваемо расплывалось перед ним в белый блин.
— Не спи, Пипинька! — тормошили его товарищи.
Он поднял голову и увидел ресторатора Verry, который, накинув на себя покрывало, шитое золотом, изображал актера Тальма, воздевая руки к небу и читая монолог из какой-то трагедии.
— Хочу увидеть славного Тальма! — воскликнул Батюшков. — Самого Тальма!
— Смотрите, — сказал Verry, раздувая щеки. — Это он! Я видел его сотни раз.
Два малых принесли ресторатору огромное резное кресло с золотыми лебедями вместо ручек, и он сел, будто император, перед ними.
— Вот так, — сказал он. — Вот так великий Тальма учил императора Наполеона, как сидеть на троне. Учил, как подобает сидеть императору великого народа.
— La grande nation! Le grand homme! Le grand siecle! — вскричал Батюшков и добавил по-русски с печалью: — Все пустые слова, мой друг, которыми пугали нас гувернеры! Все те же иезуиты. — Он погрыз косточку, оставшуюся от индюка.
— Да! — радостно вскричал в ответ Verry, поняв только французские его фразы. — Великий народ! Великий человек! Великий век!
И приказал принести еще шампанского за свой счет. Он, кажется, и сам уже был пьян.
Пьян был и Батюшков, он с грустью прошептал арфистке:
— Если ваш великий актер Тальма учил сидеть Наполеона, а моего приятеля Василия Львовича Пушкина правильному французскому произношению, то, может быть, он научит меня обращаться с женщинами? А? Я ему хорошо заплачу…
Последнее сказал он, разумеется, спьяну, поскольку был небогат и довольствовался обыкновенным жалованьем.
— Я тебя научу, милый, — сказала ему арфистка. — И будет это стоить не так дорого, как у Тальма!
Они вывалились от ресторатора ночью: в аркадах горели зеркальные фонари, как картины светились окна антикварных лавок, украшенных дорогими вещами — золотом, тяжелыми бронзами, серебром, драгоценностями, цветастыми шалями и коврами, старинными портретами в золоченых рамах. Сквозь пелену мелкого дождичка все искрилось и отражалось в мириадах капель, висевших повсюду, где они могли висеть. Маленький Пипинька еле стащил вниз большую арфу, но тут им, к счастью, подвернулся потрепанный парижский клошар, предложивший свои услуги носильщика, и помог донести арфу до гостиницы.
Полночи белая пышная арфистка копошилась над ним, мудрила, взбадривала, привораживала по-французски, но потухшая от возлияний и усталости плоть иногда вздрагивала, но не возвращалась к жизни.
— Сыграй мне что-нибудь! — попросил Батюшков, и голая арфистка села у инструмента.
Через некоторое время под звуки арфы он заснул мертвым сном, каким спят после маршей и сражений. Наутро, встав с распухшей головой и расплатившись с сударыней, которая даже утром оказалась совсем недурна, покинул Батюшков номер Hotel de Suede.
Едва ли не в тот же день последовало разрешение от государя господам офицерам ходить по Парижу в штатском, чтобы не было стычек между горожанами и пьяными офицерами. У многих штатского не оказалось при их походной жизни, и парижские портные получили большие заказы от русских молодых людей. Цены на мужскую одежду взлетели в одночасье. К слову сказать, французские торговцы были расторопны и сообразительны, как и все торговцы в мире, с русских они буквально за все научились драть в три-четыре раза дороже, чем с французов. Проведя в первый день в Париже не более двадцати часов, позавтракав в Шартрском кофейном доме фрикасе из цыпленка à la Marengo под очень недурное вино из южной Франции, Батюшков вместе с корпусом через Аустерлицкий мост выбыл из Парижа.