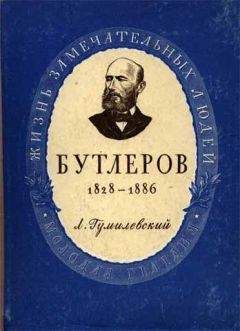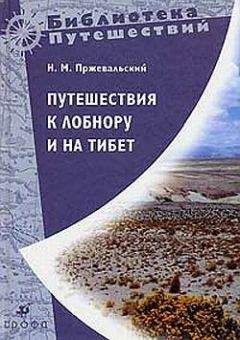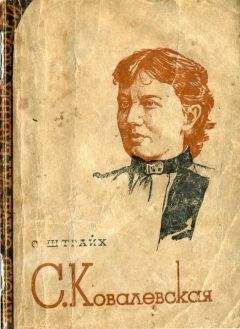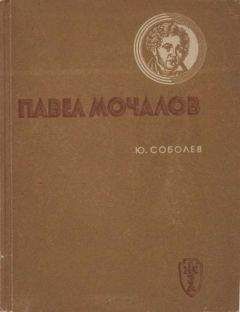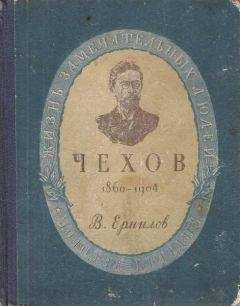Сергей Хмельницкий - Пржевальский
Быть может когда-нибудь железные дороги пересекут и те далекие пустыни, через которые он, первым из европейцев, вел свой верблюжий караван!..
27 сентября Пржевальский прибыл в Верный (Алма-Ата), где он должен был выбрать солдат и казаков для своего экспедиционного отряда. Эта забота поглотила его целиком.
Перед Пржевальским выстроился батальон, и он стал вызывать добровольцев. Николай Михайлович в самых сгущенных красках описывал им лишения и опасности экспедиционной жизни, а об усиленном жаловании и будущих наградах умалчивал. После такой речи иные из добровольцев разочарованно отходили. Из оставшихся Николай Михайлович отделял женатых от холостых. Женатых он никогда не брал в экспедицию. Выбирал он людей, никогда не живших в городе, привыкших к суровым условиям существования в глуши. Отбирал самых здоровых, рядовых предпочитал унтер-офицерам. Наилучшим спутником в его глазах был охотник.
1 октября Николай Михайлович с выбранными им людьми выехал в Пишпек (Фрунзе). Здесь он закупал верблюдов и отправлял багаж в Каракол, а на досуге охотился на фазанов.
4 октября Николай Михайлович с Роборовским охотился до ночи и очень удачно. Солдат нес за ним целый мешок фазанов.
«Я убил 15, Роборовский 1», — записал он в своем дневнике.
Днем, разгорячившись на охоте, Николай Михайлович выпил воды из реки Чу. Сырую воду Николай Михайлович пил постоянно, а в своих наставлениях «Как путешествовать по Центральной Азии» писал, что в путешествии нужны прежде всего «не доктор и аптека, а сильные организмы самих участников экспедиции».
Но в этот год даже неприхотливое местное население остерегалось пить воду Чу. Всю зиму здесь свирепствовала эпидемия брюшного тифа.
Вечером 10 октября Пржевальский прибыл в Каракол. Роборовский и Козлов приехали туда на другое утро. Они сразу заметили, что Николай Михайлович после дороги уже успел побриться.
— Да, братцы, — сказал Пржевальский. — Я видел себя сегодня в зеркале таким скверным, старым, страшным, что просто испугался и скорее побрился. — Потом, обращаясь к Роборовскому, прибавил: — Завидую тебе, какой ты здоровый!
Весь день Пржевальский в буквальном смысле слова «не находил себе места»: менял квартиры одну за другой. Одна показалась ему сырой и темной, в другой давили стены и потолок, и даже от той, которую он выбрал после долгих поисков, он в конце концов отказался.
— Здесь мрачно, гадко. Стрелять — ходить далеко. Надо найти место за городом, ближе к горам. Там поселимся в юртах, по-экспедиционному.
Роборовский и Телешов выбрали за городом удобную площадку близ ущелья реки Каракол. 14 октября экспедиция перебралась на бивуак. Место Пржевальскому очень понравилось.
Но на другой день Николай Михайлович чувствовал себя уже совсем больным. Температура у него повысилась. Пригласить врача он отказывался — и так пройдет!
Утром, выйдя из юрты, он увидал сидевшего вдали на косогоре черного грифа. Николаю Михайловичу страстно захотелось убедиться в том, что глаза и руки не изменили ему. Он схватил ружье и выстрелил.
К величайшему восхищению собравшихся неподалеку киргизов гриф покатился убитым. Его принесли к юрте. Николай Михайлович любовался громадной птицей, расправлял ее крылья и перья.
17 октября Пржевальский уже не вставал, ничего не ел, чувствовал сильную боль под ложечкой, в ногах и в затылке. Его лицо пожелтело. Наконец Николай Михайлович согласился послать за врачом. Роборовский немедленно отправился в город и привез врача каракольского городского лазарета И. И. Крыжановского.
Доктор нашел у больного брюшной тиф.
Спутники Пржевальского не раз болели тифом во время путешествий, за тысячи километров от родины, вдали от населенных мест. Пыльцов перенес эту болезнь среди голых песков Алашанской пустыни в 1872 году, казак Гармаев — в горах Цаган-обо, в страшную тибетскую зиму 1879 года. Оба они, еще не оправившись, полубольные, должны были продолжать путь, мучительно трудный даже для их здоровых спутников.
Но Пыльцов и Гармаев были молоды!
«Пускаться вдаль следует лишь в годы полней силы». Эту истину, им самим высказанную, Пржевальский понимал теперь лучше всех.
Николай Михайлович принял прописанные доктором Крыжановским лекарства, но ему становилось все хуже и хуже.
В юрте было холодно, топить ее Николай Михайлович не позволял: блеск огня и дым беспокоили его, а от жары ему становилось дурно. Больной, он лежал не раздеваясь, в меховой одежде, на войлочной кошме, постланной прямо на землю.
Крыжановский считал необходимым срочно перевезти его в город. Но Николай Михайлович соглашался переехать только в такое помещение, возле которого мог бы расположиться весь отряд с багажом и верблюдами. Даже тяжело больной, он не допускал мысли о том, чтобы расстаться со своими спутниками, со своей «семьей».
Городские власти распорядились отвести для путешественников глазной барак каракольского лазарета. Пржевальского перевезли туда в тот же день. На просторном дворе разместились юрты экспедиционного отряда и багаж. Рядом нашлось пастбище для верблюдов.
После переезда Николай Михайлович оживился, но к ночи он стал бредить. Роборовский, Козлов, Телешов, Нефедов не отходили от его постели.
Приходя в сознание, Николай Михайлович твердым голосом говорил им, что скоро умрет.
— Я нисколько не боюсь смерти. Я не раз стоял лицом к лицу с ней.
Видя на глазах своих преданных спутников слезы, Пржевальский стыдил их. Спокойно делал он завещательные распоряжения. Слободу он завещал брату, ружья — Роборовскому и Козлову, свои заметки о млекопитающих и птицах — зоологам Е. А. Вихнеру и Ф. Д. Плеске, обрабатывавшим его коллекции.
— Похороните меня на берегу Иссык-куля. Надпись просто: Путешественник Пржевальский. Положите в гроб в моей экспедиционной одежде.
А прежде чем его похоронят, Пржевальский просил вложить ему, мертвому, в руки его любимый штуцер, и так — в гробу, с оружием в руках — в последний раз его сфотографировать.
20 октября, около 8 часов утра, Пржевальский, долгое время лежавший неподвижно и бредивший, вдруг поднялся с постели и встал во весь рост. Его друзья поддерживали его.
Пржевальский осмотрелся кругом, потом сказал:
— Ну, теперь я лягу…
Глаза, с постоянной жадностью вглядывавшиеся во все новое, неизвестное, закрылись. Руки, никогда не остававшиеся праздными, державшие то бусоль, то ружье, то перо, были холодны и неподвижны.
Спутники его странствий, герои, не знавшие слабости, горько плакали.
Близ озера Иссык-куль, у подножья Небесных гор, великий путешественник, исходивший тысячи километров азиатских пустынь, кончил свой путь.