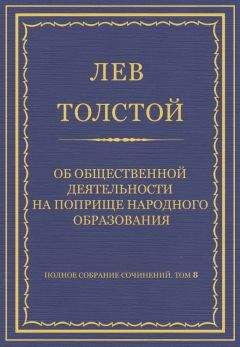Феликс Кузнецов - ПУБЛИЦИСТЫ 1860-х ГОДОВ
Разгром революционных кружков в 1866 году, плотная завеса реакции, опустившаяся после каракозовского выстрела на страну, приводили Зайцева в отчаяние. Оп выразит эту свою боль, свою ненависть к самодержавию в блистательной статье «Положение русской прессы», которую напишет сразу же после того, как ему удастся вырваться в эмиграцию в 1869 году.
Статья эта, написанная по свежим впечатлениям последних лет жизни на родине, беспощадно правдива. По словам критика, Россия шестидесятых годов представляет собой «невиданное нигде явление самой кровавой и дикой реакции, наступившей без предшествовавшей революции». Он рассказывает читателям об арестах, ссылках и преследованиях, которые безостановочно продолжаются все пореформенные годы в России, — и за все эти девять лет, за исключением каракозовского выстрела, «никому не случилось слышать ни о каком малейшем факте, который можно было бы считать побудительной причиной хотя бы к одному из тех бесчисленных гонений… последовательный ряд которых уже 9 лет составляет всю историю русского общества. По всем дорогам российского царства непрерывно скачут тройки с жандармами, уносящие нашу молодежь гибнуть в разных захолустьях. Все тюрьмы, казематы, кутузки, остроги постоянно переполнены несчастными, большею частью тщетно ломающими себе голову, чтобы догадаться о причине своего томления. Всякие полгода назначаются новые следственные чрезвычайные комиссии, и члены каждой расторопностью и проницательностью затмевают славу своих предшественников…».
За этими полными горечи словами стоит трудный личный опыт Зайцева.
Особенно тяжелыми были для критика последние годы пребывания в России, когда печататься стало практически невозможно, когда он лишился своих самых близких друзей — Ножин погиб, Соколов и Сулин были в ссылке, мать и сестра за границей. Из тюрьмы он вышел с тяжелым ревматизмом, отозвавшимся вскоре на сердце, и болезнью глаз. Больной и разбитый физически и нравственно, он по выходе из крепости был обречен на ужасную жизнь. Как свидетельствует жена, по освобождении из крепости полиция не желала оставлять его в покое и отравляла ему жизнь постоянными обысками и вызовами по малейшему поводу. Статьи его либо запрещались цензурой, либо просто не принимались в редакциях. Да и журналов, в которых Зайцев мог бы печататься, не существовало: «Современник» и «Русское слово» были закрыты — «с нарушением всех, собственного изделия, правил», как писал Зайцев в статье «Положение русской прессы»; «Книжный вестник» умер естественной смертью, в «Дело» после ссоры с Благосветловым дорога Зайцеву была закрыта. Лишенный возможности пропагандировать свои мысли в прессе, преследуемый полицейским надзором, разбитый физически и нравственно, он вынужден был эмигрировать. Еще накануне ареста Зайцев подал свое первое прошение о выезде за границу. Он был арестован 28 апреля 1866 года, а 29 апреля санкт-петербургский генерал-губернатор граф Суворов обратился в III отделение с запросом «о выдаче заграничного вида Зайцеву». Естественно, в «заграничном виде» Зайцеву было отказано.
11 мая 1867 года он вновь ходатайствует о разрешении отправиться за границу. По свидетельству жены, управляющий III отделением генерал Мезенцев прямо заявил явившемуся к нему для объяснений Зайцеву, что, «пока он жив, Зайцев не получит паспорта». За Зайцевым было установлено неусыпное наблюдение. Стоило ему выехать в деревню к своей будущей жене, как генералу Мезенцеву немедленно летит донос штабс-офицера корпуса жандармов Тверской губернии:
«На основании сообщения с. — петербургского обер-полицмейстера, тверской губернатор уведомил меня, что бывший студент с. — петербургской Медико-хирургической академии Варфоломей Зайцев, состоявший по высочайшему повелению под бдительным негласным наблюдением полиции за заявление учения о нигилизме,…в конце апреля выбыл из С.-Петербурга в сельцо Лялино Вышневолоцкого уезда.
Вышневолоцкий уездный исправник на просьбу мою уведомить о последствиях его наблюдения за Зайцевым во время пребывания его в селе Лялино 27 мая за № 26-м сообщил, что Зайцев, пробыв некоторое время в том сельце у владелицы оного Анны Григорьевны Кутузовой и женясь на ее дочери, в последних числах того же апреля отправился обратно в С.-Петербург с целью каким-либо способом отправиться за границу…
В предположении, что поездка Зайцеву за границу может быть воспрещена и что он для приведения в исполнение своего намерения может каким-либо способом обойти установленный для таких поездок порядок, я имею честь довести до сведения Вашего превосходительства вышеизложенные сведения…»
Таким образом, генерал Мезенцев был заблаговременно предупрежден о намерении Зайцева выехать за границу. Поняв, что Мезенцев и в самом деле не выпустит его, Зайцев пишет прошение самому шефу жандармов, графу Шувалову, и добивается в ноябре 1867 года личной встречи с ним, где, ссылаясь на «опасную болезнь матери», просит об «увольнении за границу». На его прошений — виза-карандашом: «Узнать, где живет мать Зайцева, и потребовать у нашего консула справку о ее болезни». И чуть ниже — вторая виза: «Можно будет уволить за границу, но наблюдать за ним первое время после возвращения».
Наконец-то 26 декабря 1867 года разрешение Зайцеву на получение паспорта было дано. Но Зайцев не успел получить его. Ровно через два дня III отделение направляет Шувалову «копию письма без подписи от 24 декабря 1867 года, к г-же Якоби, в Женеву» с припиской: «Судя по почерку, письмо это писано Зайцевым, уже известным III отделению. Оно выражает отчаянное разочарование и возмутительную безнравственность чувства». Приписка перечеркнута визой: «Прошу приостановить разрешение выезда за границу». Письмо и в самом деле было написано Зайцевым своей сестре, которая вышла за границей замуж за доктора Якоби, и матери, которая в 1865 году уехала к дочери.
Злополучное письмо это полно выражает внутреннее состояние Зайцева: «Я долго не писал вам, друзья мои, в приятной надежде увидеть вас. Я сделал все, что можно было, но все оказалось напрасно. Куда тут ехать к вам, когда, как я недавно узнал, даже мое пребывание в Лялине считается опасным для государства, так что вся земская полиция была поднята на ноги искать в Вышневолоцком уезде якобы посеянных мною злых начал! Не знаю, много ли нашли плевел; полагаю, что жатва была не щедра и не обильна, так что далеко не стоила потраченной бумаги. Но тем не менее вредоносность моя дознана, и признано, что дать мне повидаться с вами — значит подвергнуть опасности священные начала гражданственности, собственности, религии и т. д. Опять, и па сей раз уже в казусном месте, спрашивали адрес маменьки — не знаю зачем.