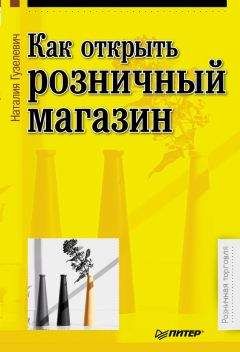Эммануил Казакевич - Дом на площади
Они втроем посидели у Ланггейнриха в доме, попили молока с хлебом, поговорили. Себастьян потом сказал о бургомистре:
— Хороший человек! В нем прекрасный сплав крестьянской добропорядочности и широты взглядов.
XII
«Почему я должен возиться с этим профессором, задабривать его, нянчиться с ним? — спрашивал себя Лубенцов все эти дни, иногда с трудом сдерживая накипавшую в сердце досаду. — В конце концов я представитель военных властей, и, может быть, прав Касаткин, когда он обвиняет меня в некотором либерализме».
Честно говоря, Лубенцов не совсем понимал, по какой причине Себастьян, при его мягкотелости и половинчатости, пользуется таким авторитетом среди немцев. Он был умным и милым человеком, порывистым, немного чудаковатым, в нем отсутствовала та тяжеловесная солидность, какая была свойственна многим немцам его возраста и положения. Это нравилось Лубенцову. Вообще, если бы не сложные служебные отношения, связывающие его с Себастьяном, Лубенцов с гораздо большим удовольствием общался бы с ним и, вероятно, гордился бы его дружбой и привязанностью.
Часто досадуя на Себастьяна, Лубенцов все-таки чувствовал, а впоследствии и понял, в чем заключается секрет влияния профессора на людей. Себастьян действительно не являлся борцом, был склонен к мягкости, всепрощению и бесплодным умствованиям, но он был человеком высокой и крайне щепетильной честности. Эта честность, ставшая чертой характера, и привлекала к нему человеческие души, она же влекла к нему Лубенцова. Человек, честный перед собой и людьми, — почти борец; в гитлеровской Германии, где были смещены все нравственные представления, это подтвердилось с особенной силой.
Лубенцов тоже был человеком очень честным, но он был, кроме того, и человеком действия; в отличие от Себастьяна он не только глубоко и искренне воспринимал те или иные явления жизни, но и сразу же старался найти способы для того, чтобы одни явления укрепить, другие преодолеть, третьи сломать. Он тоже, подобно Себастьяну, сомневался и размышлял, но он это делал не вслух, как Себастьян, а про себя; он не мог себе позволить, подобно Себастьяну, откладывать принятие решений, хотя бы они были не вполне зрелыми. Нетерпение и являлось главной причиной его конфликтов с Себастьяном и того раздражения, какое зачастую вызывал в нем профессор.
Право же, он временами жалел, что уговорил Себастьяна стать ландратом, и, нередко приходя в отчаяние от колебаний старика, готов был признать, что честность — весьма неудобная штука при решении важных и не терпящих отлагательства вопросов.
Однако, несмотря на эти мысли, Лубенцов продолжал «воспитывать профессора Себастьяна в духе коммунизма», как иногда пошучивал капитан Яворский. Они продолжали ездить по селам, заводам и рудникам, проводили вечера в нескончаемых разговорах обо всем на свете.
Вальтер провел в Лаутербурге четыре дня. За эти дни он от души возненавидел советского коменданта: тот все время был со стариком; вдвоем они уезжали и приезжали, вместе ужинали, иногда Эрика накрывала им стол в отдельной комнате; извинившись, они уединялись под предлогом служебных разговоров; то и дело звенела входная дверь — это приходили вызываемые ими чиновники ландратсамта, офицеры комендатуры или руководители демократических партий.
Вальтер и Коллинз сидели в одиночестве и раздраженно курили. Им не удалось ни разу толком поговорить с профессором. Наконец они объявили, что уезжают.
— Уезжаете? — засуетился Себастьян. Ему стало совестно, что он так редко видался с сыном; в то же время он испытывал некоторое чувство облегчения оттого, что сын и Коллинз уезжают. Перед отъездом Вальтеру удалось поговорить с ним наедине. Они вышли после разговора, длившегося свыше часа, хмурые и растроганные.
Проводив Вальтера и Коллинза к машине, Себастьян, задумчивый и обуреваемый колебаниями больше, чем когда-либо раньше, вернулся в дом. Между ним и сыном было решено, что на обратном пути из Берлина Вальтер заедет в Лаутербург, а за это время профессор должен все обдумать и решить.
Но, вернувшись в дом, профессор Себастьян опять был подхвачен водоворотом событий. Из Галле позвонил необыкновенно взволнованный старик Рюдигер; он сообщил, что закон о земельной реформе им подписан окончательно и бесповоротно. После этого пришли Меньшов, Лерхе, Иост и Форлендер. Они обратили внимание ландрата на то, что в земельном отделе проводятся махинации с помещичьей землей, — она передается задним числом монастырям и благотворительным обществам: в ландбухе[29] сделано по крайней мере десять подчисток. Коммунисты и социал-демократы потребовали снятия руководителя кадастрамта[30] и замены его сторонником земельной реформы. Затем, когда все ушли, пришел сам комендант. Он поздравил Себастьяна с принятием закона о земельной реформе и сообщил ему, что СВАГ приняла решение не демонтировать химический завод, а перевести его на производство удобрений. Завод раньше принадлежал концерну «ИГ Фарбениндустри» и производил взрывчатку, а в настоящее время — до решения его участи выпускал глиссантин, то есть антифриз, жидкость для предохранения автомобильных радиаторов от замерзания.
— Как вы думаете, — спросил Лубенцов, — трудно будет наладить на заводе производство удобрений?
— Нет, не трудно, — сказал Себастьян.
— Вы можете съездить на завод и составить подробную записку на этот счет?
— Могу.
Комендант выглядел усталым и счастливым. Когда вошла Эрика, он воскликнул:
— Вы знаете уже? Закон о земельной реформе принят!
— Я знаю, — сказала Эрика, улыбнувшись.
— Ну и как, вы довольны, правда?
Он весь излучал доброту и веселье.
— Оставайтесь у нас обедать, — сказала Эрика.
— Не могу. Дел много. Да и господина Себастьяна я, с вашего позволения, заберу с собой.
— Опять! Куда же вы его?…
— Ему нужно на химический завод.
— Так, сразу? — слабо запротестовал Себастьян.
— Конечно, сразу. — Он чуть не сказал по-русски «давай, давай», но так как уже знал, что это словечко засечено немцами, вовремя удержался. Мы пообедаем где-нибудь вместе. Очень вас прошу, поедем, не будем откладывать важное дело.
— Поедем так поедем, — вздохнул Себастьян; вздохнул он, впрочем, с некоторым притворством, так как на самом деле был доволен тем, что он нужен людям и без него нельзя обойтись.
С момента вступления в силу закона о земельной реформе для немецкого самоуправления и для комендатуры начались особенно напряженные дни. То, что Лубенцову представлялось простым и ясным делом, на практике оказалось необычайно сложным.