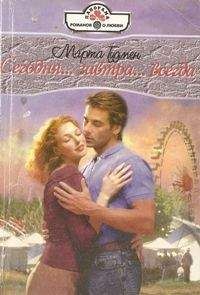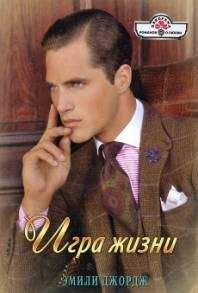Виктор Есипов - Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции
Но вернемся все же к «Грустному бэби»…
Мы ехали с Васей на его зеленой «Волге». Стоя в пробке, он затронул странную для меня (на ту пору) тему: хорошо, что мы родом — не москвичи, что вот он (как изложено им в «Досье моей матери») родился в Казани, на улице тишайшей, звавшейся Комлевой в честь местного большевика, застреленного бунтующим чехословаком, что дом его смотрел в народный сад, известный в городе как Сад Ляцкой… В его словах уже намечались контуры и «Зеницы ока», и «Ленд-лизовских», и других — хоть и светлых, но явно горьковатых — вещей, и я отчетливо видел его мальчонком, Акси-Вакси, уверенным в том, что его родители действительно уехали в долгосрочную командировку на Дальний Север, примкнув к героям-полярникам, и то, как носился он по таинственным углам грязного мира, ощущая в себе нечто щемящее, будто заброшенный щенок, или бессмысленно-дерзновенное, точно у несущегося в неизвестном направлении бродячего пса. Придет срок — и он, не склонный к громким фразам, напишет: «…мы, тогдашние дети, подсознательно испытывали ощущение полной заброшенности».
— А ты? — говорил он, стоя перед светофором, не поворачивая ко мне лица. — И тебе, если можно так сказать, повезло: ты стал бы другим, если б не был бахмутским пацаном, не замерзал в военную зиму в Джезказгане рядом со Степлагом, не голодал невдали от самой, по твоим словам, красивой во всем мире горы Синюхи в Боровом, не загибался курсантом в пекле Нахичевани-на-Араксе; за это судьба отблагодарила тебя, подарив Тбилиси, а еще Будапешт, где судьба свела тебя с совершенно другим образом жизни, с такими джазменами, как контрабасист Аладар Пэгэ, художниками-авангардистами, писателями-диссидентами.
С чисто аксеновским азартом за кружкой пива в Домжуре мне и Алеше Баташеву, воспетому им в шестидесятых в журнале «Юность» (это было почти стихами, в которых модно экипированный Алексей теплыми синими московскими вечерами со своим золотым саксофоном, призванным быть голосом страстной любви, утверждает дух непослушания и стремления свинговать за милую душу), рассказывал, как много значило в его жизни то, что в Казань его детства с берегов Хуанпу прибыли джазисты-«шанхайцы» во главе с Олегом Лундстремом, которые «рассосались» по ресторанам, кинотеатрам и клубам и частенько, хлебнув стакан водки и перемигнувшись с публикой, «вдруг выдавали свой свинг, растягивая перед местной жалкой молодежью огромные медные закаты внешнего мира».
О моем же бахмутском детстве (за что я Аксенову безумно благодарен) он написал нечто похожее: «В жалких коммунальных квартиренках, в гнилых хибарах, на подванивающих дворах, под запыленными и прокопченными платанами шла жизнь работников железнодорожного узла и их семейств. И все это к тому же было разъедено коростой НКВД, постоянным наблюдением и сыском, арестами, расправами, а также и добровольным стукачеством. Казалось бы, «оставь надежды всяк сюда входящий», — и вдруг происходит какой-то сдвиг, и ты видишь, что эта коммуна — отнюдь не собрание роботов соцсоревнования, а некое довольно хаотическое сообщество соседей, в которых живы и дружба, и лирика, и, как ни странно, любовь к музыке — совсем не к маршевым ритмам, а к синкопическим подскокам джаза. Сдвиг этот случается в тот момент, когда удивительно молодая и любвеобильная бабушка Мити Чурсина, Анна Марковна, натыкается на сидящего под деревом бродягу в заграничном пальто. К вящему удивлению читателя, бродяга оказывается не кем иным, как паном Наделем — осколком роскошного европейского джаз-оркестра под управлением Эдди Рознера. Еще совсем недавно этот польско-еврейский коллектив играл в ночных клубах веселого Берлина…»
Чем больше ожогов, которыми нещадно жалит нас жизнь (уже и в детстве, и в отрочестве!), тем лучше — если, увы, так можно выразиться — для будущего писателя, — утверждал Аксенов, тормозя перед светофором. А как иначе, продолжал он, добывается собственная интонация? По-другому не бывает.
Васин сеттер Ральф все пытался лизнуть мою шею. Псу было безразлично, к кому ластиться. Ему хотелось целоваться. Я и догадаться не мог, что непоседливый Ральф всего через пару дней врежется на бегу, со всего трехгодовалого восторга и собачьей страсти, в корявое дерево рядом с гаражом во дворе Красноармейской улицы и из-за этого вскоре погибнет…
Ну а в тот день, в блаженном неведеньи, мы ехали (кажется, «Пурпурного легиона»[182] тогда еще не было) к кому-то за какими-то джазовыми дисками и еще в другое место — за игрой «Монополия», присланной по Васиной просьбе из Франции специально для меня. И В.П. вдруг начал читать наизусть мои новинки, которые вошли в «Антологию джазовой поэзии» журнала «Новый мир»: «Армстронг» и «Мистер «Матовый звук». Несколько раз (без всяких подсказок) повторил то, что довелось ему услышать от меня лишь однажды:
Подносит он к губам трубу.
Сверкает запонка в манжете.
Предугадав свою судьбу,
Не так уж просто жить на свете.
В тот момент я не подумал о том, что он каким-то образом предугадал свою судьбу, богатую на разлуки (В.П. признался, что эмиграция сродни собственным похоронам, что с первого дня прибытия на Запад и потом, во время трехмесячных скитаний по Европе, и сейчас, в американском самолете, его не оставляло ощущение «раздавленной бабочки»). Только читая его «Новый сладостный стиль», я понял, как умел В.П. предугадывать будущее и, конечно, то, что уж никак не обойдется без горьких нот в период пространственно-временного пересечения двух виртуальных миров.
А тогда я просто поразился: надо же, запомнил эти мои строчки! Такой, без преувеличения, феноменальной памятью обладал, как мне кажется, в числе немногих счастливчиков Александр Межиров. Но куда больше поразило меня, что стихи чудом оказались в «Грустном бэби»! И все это — на фоне раблезианского музыкального пиршества. «Армейские антрекоты» — так, мелкая деталь. Антуража ради. Не в них суть. Звуки квадрофонической системы, «предмета неслыханной гордости», обрушивались на присутствовавших из всех углов; из заветных картонных ящиков с осторожностью, и опять же горделиво, извлекались одна за другой фирменные пластинки, которых ни в каком, даже московском, Военторге ни за какие деньги не купишь. Чтобы торжественная процессия королей и герцогов американского джаза не прерывалась, генерал Генка щедро демонстрирует свои драгоценности, хвастается ими. Откуда они, эти диски, у него, в самом деле? Загадка?
Ответ ошеломляет: «Совершенно очевидно было, что генерал поддерживает прочные связи с миром музыкальной фарцы». Каково?! И не просто генерал — генерал-полковник! И вот вам аксеновское крещендо: «Генка Кваркин имел страсть к высоким децибелам и не ограничивал звуковых возможностей своей аппаратуры. Никаких разговоров за ужином, разумеется, не велось. Знаками мы спросили мадам Кваркину, как она с этим справляется[183]. Она молча вынула и показала нам на ладони специальной конструкции ушные затычки».