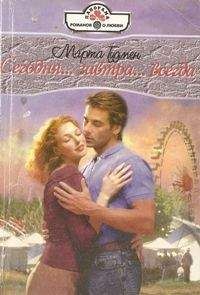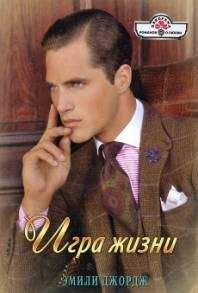Виктор Есипов - Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции
— Старик, надо определиться. — Ему нравилось это слово: «определиться». Он со значением произносил его. — Как думаешь: можно ли с этим человеком вести себя по-прежнему, будто ничего не произошло? Так ведь произошло, случилось ведь, уже не все по-прежнему. Да, да, не все!
У него это очень здорово выходило: вроде с налетом иронии, с улыбкой, которая топорщила его усы (типичный красавец-герой из вестерна — только-только примчался из диких и душистых прерий с горячим кольтом в кобуре), но чувствовалось: он словно перечеркнул в рукописи одну из самых удачных страниц. А потом еще одну. И еще одну…
В «Таинственной страсти», последнем романе, потрясают его слова, обращенные к популярнейшему поэту, чьи песни, обогащая автора, гремели на весь Союз и которого он считал близким: мол, ты, дружок Р.Р., бросившийся в партию от беспартийной богемы, потащился совсем в другую сторону, «почти столь же немыслимую для всех, сколь и радио «Свобода». И — его ужас: «Разве так судьбу берут за лацканы»?
А как надо брать — на этот вопрос он сумел дать сотни, тысячи ответов. Кто хотел — находил. Желающих было — сотни тысяч.
Раскидывавший руки для объятия при виде, казалось бы, утерянных друзей (ну чистый чувак из нашей джаз-банды, вернувшийся из Нью-Йорка на лето в Москву, на Котельническую набережную, к Яузе под окном, а никакой не профессор Института Кеннана, университета Джорджа Вашингтона, Гаучерского университета и университета Джорджа Мейсона, переводчик нашумевшего у нас со страшной силой «Рэгтайма» Эдгара Лоуренса Доктороу, никакой не живой классик русской литературы), он мог тем не менее не подать руки такому количеству персонажей времен до— и послеперестроечных, что их перечисление заняло бы место поболе этой статьи. Он избегал их, как тень Короля Датского, не пожелавшего откликнуться на голоса смалодушничавших Горацио, Марцелла и Бернардо в первой сцене «Гамлета». Верно подметил Марцелл, когда призрак брезгливо скрылся:
Ушел!
Напрасно мы, раз он так величав,
Ему являем видимость насилья;
Ведь он для нас неуязвим, как воздух,
И наше нападенье — лишь обида…
Думаю об Аксенове — и почему-то невольно думаю о нескончаемой молодости.
Он никогда не расставался с нею, как бы дорого это не давалось, ее высокая волна поднимала его, придавая новизну всему, что вокруг, и ликовала, бурлила в каждой его новой вещи, в каждой строке и в прямом общении с людьми. Васе хотелось, чтобы читатели разделили эту радость, приобщились к ней. Я сказал ему, что впервые ощутил это по многим ранним вещам. Вот хотя бы — «Как жаль, что вас не было с нами», где юная любовь, и чисто аксеновское море, и ресторанчик на берегу с джазиком (трое молодых людей, которых тянуло на импровизацию, — труба, контрабас и аккордеон — и рояль — старик, воспитанный совсем в иных традициях).
В.П. позабавило, что название этой повести в разговоре с кем-то я почему-то нечаянно «пристегнул» к фолкнеровскому рассказу «Полный поворот кругом». Даже поспорил на эту тему, доказывал недоказуемое.
Вася хохотал:
— Промазал!
Но ты смотри, убеждал я, там — то же буйство души, в которой «ни одного седого волоса»; этот мальчишка лейтенант Хоуп, этот ребенок около шести футов роста, похожий на девушку и вечно поддатый, обижающийся на подколки летчиков-пижонов и, не осознавая своего юного героизма, торпедирующий немецкие суда («бобры», как окрестил их Хоуп) — до чего же он твой с его полной, абсолютной независимостью, своеволием, дерзостью, музыкой спятившего мира!
— А что, — вдруг согласился со мной Вася, — пожалуй, ты прав, скорее всего, так оно и есть на самом деле, да и куда ж нам без Фолкнера; недаром Андрюша Тарковский поставил радиоспектакль по этой новелле и провел идею: ни на кого не надейся, пока ты молод, от одного тебя, морячок, все зависит!
В замечательной, страстной книге, посвященной Майе[178], он чуть ли не кричал, доверясь ритмическому строю: «Пятнадцать лет долой! Я снова пьян, я снова молод, я снова весел и влюблен. Чувствую каждую свою мышцу, а неизвестный молодой мир зовет под своды своих древних колоннад, под балконы и на водосточные трубы, меня, ТАИНСТВЕННОГО В НОЧИ…»
Открываю эту обжигающую книгу — а там (о, Господи!) всякий раз всплывает красным карандашом (давным-давно) подчеркнутая мною строчка:
Знакома ли вам фортепианная пьеса «Воспоминание о молодости»?
Строчка-ожог (таких у Аксенова не счесть)!
Да как же забудешь эту невероятную пьесу?
И как забудешь, например, тот синий и прозрачный, морозный вечер в Красной Пахре: …уже за окнами — огни, и вокруг — сверкающие сугробы, а над высоким холмом — затейливый звездный узор имени проживавшего здесь некогда светлейшего Александра Арчиловича из древнейшего царского рода Багратида[179]. Вот и срифмовалось: Грузия и Красная Пахра!
Ну а путь сюда? Не из той ли пьесы это?
…В гости к Аксенову приехала из Токио застенчивая, но деловитая Йоко-сан, которая вознамерилась перевести на японский «Завтраки 43-го года», «На полпути к Луне», «Папа, сложи!» и другие рассказы. С нею прибыли ее муж, молчаливый и ничему не удивляющийся хрупкий потомок самураев, и сын Лео, названный в честь величайшего автора «Анны Карениной». Договорились 7 ноября повезти гостей на дачу, полученную некогда от правительственных щедрот Романом Карменом.
Надо было видеть, как Васята с Маятой, рассаживаясь по своим машинам, смотрели друг на друга, — он и она (пока еще — но уже ненадолго — Майя Кармен)! Как они были неисправимо молоды, как они были неотразимы, как безнадежно влюблены друг в друга и как друг без друга обходиться теперь просто не могли, — он, типичный герой великолепного вестерна, и она — словно творение кисти одновременно и Боттичелли, и Кустодиева. Я догадывался, почему он к нескольким(!!!) главам «Золотой нашей Железки» поставил эпиграфом одну и ту же строфу Бориса Пастернака, перед которым преклонялся[180]:
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
Повторяю — к нескольким!
Ну, теперь ясно, откуда взялось это ожоговское признание: «Он вдруг забыл страшное слово «совокупление», забыл и сам себя, Самсика Саблера, забыл и Марину Влади, и Арину Белякову, и джаз, и Сталина, и Тольку фон Штейнбока, и, все это забыв, взял женщину и ринулся вместе с ней с крутизны в темный тоннель, загибающийся, как улитка». Эта страсть зашифрована в европейских подстрочниках той же самой «Золотой Железки», где, прорывая дамбу пустынных улочек готического града, холодного неба и башни под ним, на воле оказывается поэзия любви, не нуждающаяся в запятых и точках (не до них!): «ты подбегаешь и вот уже рядом со мной твой золотой мех и бриллиантовые волосы и встревоженные глаза и мягкие губы ты моя девочка моя мать моя проститутка моя Дама и ты уже вся разбросалась во мне и шепот и кожа и мех и запекшиеся оболочки губ и влажный язык (…) все успокаивает меня и засасывает в воронку твоего чувства…»