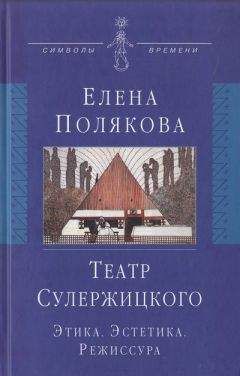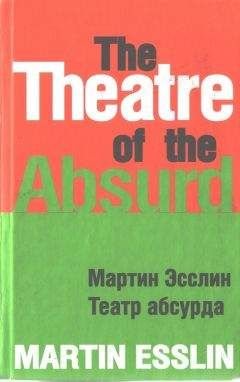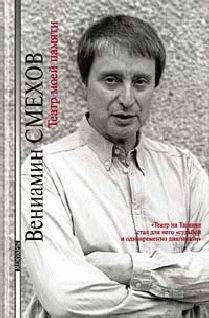Франсуаза Жило - Моя жизнь с Пикассо
Следующий день выдавался столь же беспокойным. Мы звонили в Ним, меняли заказ, добавляли на всякий случай два-три билета, а потом держались стоически, понурив голову и расправив плечи, готовые ко всему, поскольку с того дня Пабло находился в отвратительном настроении и без конца твердил, что мы тащим его на корриду. Разумеется, если б посмели не заказать билеты, он пришел бы в еще худшее настроение и утверждал бы, что мы стараемся не пустить его туда. Все оставшееся время нам приходилось по два раза на день звонить в Ним: сперва для отмены заказа, потом для возобновления, или с просьбой уменьшить количество билетов. Работа у Пабло в этот период шла через пень колоду, потому что эта история изматывала и его, и нас.
Утром в день открытия корриды Пабло не желал покидать постель. Этому испытанию Пауло и я подвергались регулярно. Мы входили в спальню и вновь приводили ему все доводы для участия в том, что являлось для него праздником. Упрашивали его не избирать путь наименьшего сопротивления. Втолковывали ему, что это, в конце концов, несравненное представление, очень важное для его работы, и всем нам оно очень нравится. Пауло коррида действительно нравилась, но я ездила туда главным образом дабы угодить Пабло. Эстетически это очень впечатляющие зрелище, но оно всегда причиняло мне мучительные страдания и, едва начавшись, угнетало меня. К тому же, тогда в машине я часто плохо себя чувствовала, потому что после рождения Паломы здоровье мое стало ухудшаться. Вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что я увлекалась боями быков и таскала Пабло на них.
Наконец, неспешно, лишь в угоду нам, Пабло поднимался, и мы выезжали с большим опозданием. Марсель бывал вынужден гнать, как сумасшедший, потому что до Нима сто пятьдесят миль, до Арля чуть меньше, а нам требовалось приезжать туда заблаговременно, чтобы Пабло до обеда осмотрел быков в загоне, поприветствовал нервничающих матадоров в их комнатах и непременно обсудил с владельцем ганадерии[26] достоинства каждого быка.
Владелец обязательно сопровождает быков. Он становится за барьером непосредственно позади матадоров, чтобы наблюдать все происходящее на арене и видеть, до какой степени быки оправдали его ожидания. Быка называют «ручным», когда он отказывается сражаться и вместо того, чтобы бросаться на плащ, роет копытом землю, а потом пятится. Раньше на такого натравливали собак, но теперь просто уводят с арены. Для владельца ганадерии это считается тяжелым ударом. Но когда бык сражается «гордо», по выражению афисионадо[27], ему полной мерой воздаются почести в поражении — в смерти. Для владельца ганадерии это свидетельство, что он вывел поголовье с наилучшей комбинацией боевых качеств.
Так что на осмотр быков, приветствие матадоров и разговор с владельцем ганадерии у Пабло уходило много времени. Все это типично испанские ритуалы, без которых коррида не коррида, и приезжать на место нам требовалось задолго до полудня.
Поэтому мы всегда старались выехать пораньше, но поскольку это нам когда не удавалось, приходилось мчаться сломя голову, чтобы как-нибудь успеть. А затем устраивался еще один ритуал. Мы усаживались за обильный обед со всеми друзьями, приходившими в дом Кастеля — писателями Мишелем Лейри и Жоржем Бателем, племянниками Пабло Ксавьером и Фином Вилато и еще десятком людей. К этому времени Пабло сиял. Мы приехали на бой быков, и все шло прекрасно.
Однажды мы поехали в Арль посмотреть не только, как обычные трое матадоров убивают шестерых быков, но и Кончиту Синтрон, восемнадцати-двадцатилетнюю чилийку, она была рехонеа-дора, сражалась с быками, сидя в седле. Когда матадор садится на коня, не бывает ни пик, ни бандерилий. Все эти начальные фазы корриды заменяются маневрами верхового матадора. Когда бык пытается атаковать коня, матадор отъезжает и всаживает ему в спину деревянные дротики около пяти футов длиной с восьмидюймовым стальным наконечником. Называется такой дротик «рехоне». Если матадор достаточно искусен, то убивает быка. Если нет, через десять-пятнадцать минут он спешивается, берет шпагу, красную мулету и сражается с быком в обычной манере. Именно это произошло в тот день с Кончитой Синтрон: она спешилась, убила обоих быков шпагой и сделала это великолепно. Кончита была примерно моего роста, зеленоглазая, с каштановыми волосами. Мы познакомились с ней перед корридой, потому что, как обычно, пошли поговорить с матадорами. После корриды мы сидели в маленьком кафе небольшой группой — Пабло, я, Ксавьер, Кастель и владелец ганадерии, привезший в Арль из Испании восемь быков. Одет он был в костюм людей его профессии — узкие брюки, сапоги, кожаный передник, короткую андалусскую куртку и андалусскую шляпу. Других языков, кроме родного, он не знал, и мы говорили с ним по-испански. Я была в коротком польском пальто, которое Пабло привез из Вроцлава. Ко мне подошла компания из нескольких человек и попросила автограф. Я сочла это странным. И сказала, указав на Пабло: «Это он дает автографы». Они ответили: «Нет-нет. Нам нужен ваш». Пабло сказал: «Не спорь. Раз они хотят получить твой автограф, напиши». Я написала, и они все ушли очень довольными. Тут же подошла другая компания и обратилась с той же просьбой. На сей раз удивился даже Пабло. Я спросила людей, зачем им мой автограф. Один из них, лукаво поглядев на меня, ответил: «Можете это скрывать, можете подписываться другой фамилией, но мы знаем, что вы Кончита Синтрон». Пабло восхитился тем, что меня приняли за рехонеадору, и рассказывал об этом направо и налево.
В тот день на корриду приехали художник Домингес и Мари-Лаура де Ноэль. Для Пабло бой быков был не менее священным — а может, и более — чем для католика месса. Мы сидели в первом ряду, в тени, откуда открывался лучший вид на арену, и как всегда хранили по требованию Пабло благоговейное молчание. Увидев, что Домингес и Мари-Лаура сели у нас за спиной, он начал браниться. Домингес пьяно покачивался, они принесли с собой бутылки вина, колбасу и громадную ковригу хлеба. Пабло держался дружелюбно, но внутри у него все бурлило. Он негромко обратился ко мне:
— Терпеть не могу никаких помех на корриде. Похоже, тут наконец-то приличная программа, а теперь эта парочка позади нас все испортит. Отвратительно. И я ничего не могу сказать. Ну и жизнь у меня? Все во всем пакостят. Ни единого удовольствия без привкуса горечи.
И действительно, в тот день Домингес превзошел, себя и всех прочих криками, аплодисментами, шипением в самые неподходящие минуты. Когда матадору настало время получать знаки восхищения зрителей, Домингес под крики «оле!» бросил вниз ковригу, затем колбасу, а потом бутылки с недопитым вином. Однако сделал это с такой живостью, что Пабло не смог долго сердиться на его святотатство.