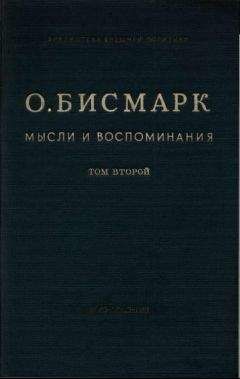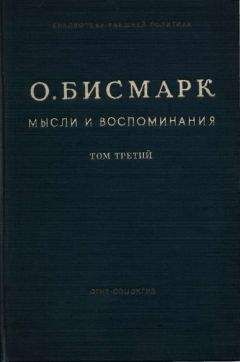Отто Бисмарк - Мысли и воспоминания Том I
Визит к нам Луи-Наполеона по указанным мною в другом месте причинам мог бы уже сам по себе придать нашему голосу большее значение в глазах мелких государств. Их уважение к нам и даже преданность будут прямо пропорциональны страху перед нами; доверять нам они никогда не будут, каждый взгляд на карту лишает их этого доверия; они понимают, что их собственные интересы и вожделения преграждают путь общему направлению прусской политики, что в этом таится для них опасность, против которой единственной гарантией в настоящее время является бескорыстие нашего всемилостивейшего государя. Посещение Берлина французом не увеличило бы недоверия к Пруссии, в общем и целом и без того уже существующего, а настроения короля, которые могли бы это недоверие рассеять, отнюдь не вызывают чувства благодарности к его величеству: его лишь используют и эксплоатируют. Предполагаемое «доверие» не даст нам в случае нужды ни одного солдата, тогда как страх, если мы сумеем его внушить, отдаст весь Союз в наше распоряжение. А внушить этот страх можно ощутительным показом наших добрых отношений с Францией.
Если что-либо подобное не будет предпринято, то, вероятно, не удастся долго поддерживать те приязненные отношения с Францией, которые вы сами признаете желательными. Ибо теперь оттуда заискивают перед нами, чувствуют потребность заключить с нами брачный союз, надеются на свидание; отказ с нашей стороны вызвал бы охлаждение, которое не осталось бы незамеченным другими дворами, так как «parvenu» [«выскочка»] почувствовал бы себя [задетым] в самом чувствительном пункте.
Предложите мне какую-нибудь иную политику, и я готов обсудить ее с вами честно и без предубеждения; но, находясь в самом сердце Европы, мы никак не можем пассивно проводить бесплановую политику, радуясь, когда нас оставляют в покое. Такая политика может стать для нас теперь такой же опасной, как в 1805 г.[377], и мы окажемся наковальней, если ничего не сделаем, чтобы стать молотом. Я не могу признать за вами права утешаться тем, что victa causa Gatoni placuit[378], если вы при этом рискуете обречь наше общее отечество на victa causa [поражение]...
Если мои взгляды не находят у вас снисхождения, не произносите, по крайней мере, окончательного приговора, вспомните, что в тяжелые времена мы много лет не только трудились вместе на одной ниве, но и растили на ней одни и те же злаки; вспомните, что со мной можно столковаться и я всегда готов признать свою неправоту, убедившись в этом...
ф. Б.»
Герлах отвечал:
«Сан-Суси, 5 июня 1857 г.
...Прежде всего я охотно признаю практическую сторону ваших взглядов. Нессельроде справедливо говорил здесь, как и вы, что, пока Буоль у власти (вы правильно упоминаете наряду с ним Баха), сотрудничество с Австрией невозможно. Австрия, рассыпаясь в громогласных уверениях в дружбе, восстановила, говорил он, против них (т. е. русских) всю Европу[379], оторвала у них кусок Бессарабии[380] и сейчас еще причиняет им тяжкое огорчение. Подобным же образом Австрия обращается и с нами, а во время Восточной войны она вела себя до гнусности вероломно. Итак, когда вы говорите, что с Австрией вместе итти нельзя, то это относительно верно, и in casu concreto [в конкретном случае] мы едва ли разойдемся с вами на этот счет. Однако не забывайте, что одно прегрешение всегда рождает другое и что Австрия также может предъявить нам список прескверных грешков, как, например, противодействие в 1849 г. вступлению в Баденский озерный округ, что, собственно, и привело к потере Нейенбурга[381], который должен был тогда завоевать принц Прусский; затем политика Радовица[382]; далее, высокомерное отношение в период интерима[383], когда даже Шварценберг проявлял добрую волю, и, наконец, множество менее значительных деталей: все сплошь повторение политики 1793–1805 гг. Но тот взгляд, что наши дурные отношения с Австрией должны быть лишь относительно дурными, практичен при всех обстоятельствах, поскольку он, во-первых, удерживает нас от мести, способной привести только к беде, и, во-вторых, сохраняет волю к примирению и сближению, а следовательно, устраняет все то, что могло бы помешать такому сближению. И то и другое у нас отсутствует. А почему? Потому, что наши государственные люди donnent dans le Bonapartisme [ударяются в бонапартизм].
Но о последнем скорее могут судить старики, чем молодые. Стариками же в данном случае являются король и аз грешный, молодыми — Фра Дьяволо [Мантейфель] и т. д., ибо Ф[ра] Д[ьяволо] в 1806–1814 гг. был в Рейнском союзе, а вас еще на свете не было. Мы же десять лет изучали бонапартизм на практике, нам хорошо его вдалбливали. Поэтому все наши расхождения сводятся — ибо в основе мы единодушны — лишь к различному пониманию сути этого явления. Вы говорите: Людовик XIV был тоже завоевателем; австрийское Viribus unitis[384] [общими силами] также революционно; Бурбоны более повинны в революции, нежели Бонапарты, и т. д. Вы заявляете, что положение «quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convaleseere nequit» правильно только с точки зрения доктрины (я не согласен даже с этим, ибо из всего неправого может возникнуть правое и возникает с течением времени; из установленной вопреки божьей воле царской власти во Израиле вышел спаситель; столь признанное первородство нарушается Рувимом, Авессаломом и т. д.; на Соломона, прижитого с прелюбодейкой Вирсавией, нисходит благословение господне[385] и т. д. и т. п.). Но когда вы все это валите в одну кучу с бонапартизмом, то это свидетельствует о полном непонимании сущности бонапартизма. Бонапарты — и Н[аполеон] I и Н[аполеон] III — отличаются не только революционным неправомерным происхождением своей власти, как это свойственно, пожалуй, и Вильгельму III, и королю Оскару[386], и т. д.; они сами воплощение революции. Оба, и № 1 и № 3, ощущали в этом свою беду, но избавиться от этого оба были не в силах. Прочтите забытую сейчас книгу «Relations et Gorrespondances de Nap. Bonaparte avec Jean Fievee» [«Отношения и переписка Наполеона Бонапарта с Жаном Фьеве»], вы найдете там глубокие взгляды старого Наполеона на сущность государств; да и нынешний Бонапарт импонирует мне такими идеями, как, например, признание дворянских титулов, восстановление майората[387], понимание опасности централизации, борьба против биржевой спекуляции, стремление восстановить старые провинции и т. д. Но это не меняет существа его власти, так же как и существо Габсбургско-Лотарингского дома[388] не меняется от наличия в его составе либерального и даже революционного и[мператора] Иосифа II[389] или Фр[анца] Иосифа с его высокоаристократическим Шварценбергом и баррикадным героем Бахом[390]. Naturam expeilas furca[391] [гони природу в дверь...]. Никакой Бонапарт не может поэтому отречься от народного суверенитета, он и не делает такой попытки. Как показывает цитированная выше книга, Наполеон I отказался от своего стремления отречься от своего революционного происхождения, когда велел, например, расстрелять герцога Ангьенского[392]; так же будет действовать Наполеон III, и так он уже поступил, например, при нейенбургских переговорах[393], когда ему представлялась наилучшая, и при других обстоятельствах весьма желанная, возможность восстановить Швейцарию. Однако он убоялся лорда Пальмерстона и английской прессы, что честно признал Валевский, Россия убоялась его, Австрия — и его и Англии, и таким путем состоялась эта позорная сделка. Не странно ли, — мы имеем глаза и не видим, имеем уши и не слышим[394], — что тотчас же за нейенбургскими переговорами следует история с Бельгией, победа либералов над клерикалами, победоносный союз парламентского меньшинства с уличным восстанием против парламентского большинства[395]. Но тут, оказывается, не должно быть вмешательства со стороны легитимных держав — этого Бонапарт безусловно не потерпел бы; если же все это не угомонится, то бонапартизм вмешается — вряд ли, однако, в пользу клерикалов или конституции, скорее в пользу суверенного народа.