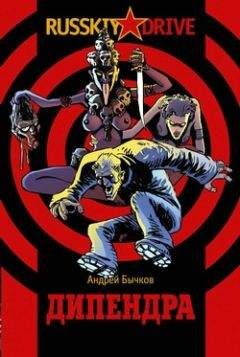Елена Морозова - Мария Антуанетта
5 мая в зале Малых Забав начали свою работу Генеральные штаты. В этот день все сословия собрались в одном зале, где впереди, на небольшом возвышении стоял королевский трон, а рядом кресло для королевы; но Мария Антуанетта садиться отказалась. В темном фиолетовом платье, с единственным бриллиантовым украшением в прическе, она, по словам очевидцев, внимательно слушала речь супруга, открывавшую собрание, и пару раз из глаз ее выкатились слезы. «…Кроткое величие, читавшееся на ее челе, скромность ее позы, ее неброский костюм, все вместе произвело на собравшихся живейшее впечатление… можно с уверенностью сказать, что во время заседания все сердца принадлежали королеве». Речь короля была посвящена финансовому кризису и государственному долгу, следующий докладчик, Неккер, говорил о том же самом, только еще дольше. И никаких рекомендаций по выходу из кризиса, тем более никаких изменений в политический системе. Никто даже не произнес слова «конституция», а ведь его так надеялись услышать в речи Неккера! Обладавший политическим чутьем, но не отличавшийся излишней доброжелательностью Мерси писал Иосифу: «…речь короля имела успех, речь же господина Неккера, продолжавшаяся три часа и затронувшая все аспекты управления, хотя и была составлена по всем правилам ораторского искусства, снискала лишь критические замечания и недовольный ропот даже на скамьях третьего сословия. <…> Если из-за природного легкомыслия эта нация не сумеет быстро призвать самое себя к порядку, произойдет революция; верховная власть, по крайней мере на период этого царствования, скомпрометирована окончательно, и французская монархия надолго утратила свой авторитет как внутри страны, так и за ее пределами. <…> Ваше Величество должны понимать, каким тяжким бременем ложится нынешняя ситуация на королеву. Все взоры обращены на нее, ибо бездействие ее августейшего супруга очевидно всем; таким образом на нее ложится ответственность, которая не может быть справедливой, ибо все, что придумывает и предлагает королева для улучшения положения, редко выслушивается, а если выслушивается, то никогда не исполняется в полной мере».
Не только Мерси предчувствовал революцию. Графиня де Буань (которой в ту пору было восемь лет) приводит разговор своего отца с Мадам Аделаидой, состоявшийся после открытия Генеральных штатов. Присутствовавшая на первом заседании тетка короля спросила маркиза д'Осмонда, где тот сидел. «“Меня там не было, Мадам”, — ответил тот. “Неужели вы были больны?” — “Нет, Мадам”. — “Как же так? Многие приехали издалека, чтобы присутствовать на церемонии, а вы даже не дали себе труда всего лишь перейти дорогу”. — “Я не люблю похорон, Мадам, а особенно похорон монархии”, — ответил маркиз». В июне отец отвез восьмилетнюю Ад ель в деревню, к родственникам ее гувернантки, а когда через пару месяцев она вернулась в Версаль, оказалось, что одни из ее друзей-ровесников покинули страну, а другие укрывались в жилищах своих слуг. «Причиной стольких волнений из-за нас, детей, стал слух о том, что народ, как с тех пор стали называть кучку негодяев, выступил в поход, чтобы отобрать у дворян детей и сделать их заложниками». Страх неминуемого столкновения с народом поселился в Версале с первых дней открытия Генеральных штатов.
После заседания Мария Антуанетта уехала в Медон к дофину, которого неумолимо пожирала страшная непонятная болезнь, и оставалась там до самой его кончины. Пишут, что мальчик часто просил мать обедать у него в комнате, и королева, изо всех сил сдерживая слезы, с улыбкой позволяла ему ухаживать за собой — придвигать к ней кушанья и накладывать их ей на тарелку. Вскоре к королеве присоединился Людовик. Он тоже покинул Версаль, где депутаты, разделившись на две части, занялись проверкой собственных полномочий, иначе говоря, подтверждением своих мандатов. Процедура трудоемкая, запутанная, бесконечная, но в тех условиях даже полезная, ибо третье сословие требовало совместной проверки полномочий как гарантии дальнейшей совместной работы и голосования; однако дворянство и духовенство тотчас отделились, дав понять, что никакого единства не будет, подтолкнув тем самым депутатов третьего сословия отстаивать поголовное голосование. Депутаты знакомились друг с другом, спорили, создавали политические клубы, которые впоследствии станут идейными кузницами революции, ее барометрами: клубы якобинцев, фельянов, кордельеров[21]. В то время Мерси писал: «С того самого дня, когда открылись заседания Генеральных Штатов, депутаты теряют время в бесплодных дискуссиях о том, как следует проводить голосование: посословно или поголовно. <…> Сословия, не способные найти общее решение ни по одному вопросу, похоже, сходятся в одном: в стремлении как можно больше унизить власть, пребывающую в полной летаргии. <…> Развязка сего рокового кризиса не за горами; последние финансовые ресурсы исчерпаются в июле; однако весьма проблематично, что даже ценой чести удастся найти деньги. <…> Все указывает на грядущую катастрофу».
Первым в череде долгих несчастий, обрушившихся на Марию Антуанетту, стала смерть дофина, случившаяся в ночь на 4 июня 1789 года. Людовик, узнавший о несчастье ранним утром, в своем дневнике записал: «Смерть моего сына в час ночи» и заказал тысячу месс за упокой его души. Чтобы не напрягать казну, король обратил в деньги парадную серебряную посуду и приказал не устраивать пышных похорон. Придворные в траурных одеждах прошли перед удрученными горем монархами. Народ смерти дофина не заметил, ибо, как писала королева, «пребывал в радостном исступлении», и ей ничего не оставалось, как глотать слезы. В те дни королева часто плакала, горе сделало ее особенно чувствительной, и если прежде глаза ее постоянно смеялись, то теперь в них то и дело плескался страх. В волосах засеребрилась обильная седина. В те дни она особенно остро ощущала переходящее во враждебность безразличие народа, и, не понимая, что надо сделать, дабы изменить положение, ей было очень горько. «Однажды вечером, — вспоминает Кампан, — королева сидела посреди комнаты и рассказывала, что произошло за день; на ее столике горели четыре свечи, первая погасла сама, я вновь зажгла ее; вскоре погасла вторая, а затем третья; тогда королева в ужасе схватила меня за руку и сказала: “Несчастье делает меня суеверной; если четвертая свеча погаснет, как и остальные, ничто не переубедит меня, что это дурной знак”. Четвертая свеча погасла».
Пока королевская семья, уехавшая в Марли на время дворцового траура оплакивать сына, пока король, желая забыться, ездил на охоту, 17 июня третье сословие с примкнувшей к нему частью духовенства провозгласило себя Национальным собранием. «Если король твердо не заявит Генеральным штатам, что он считает их только консультативным органом, постановления которого ни в коей мере не могут препятствовать ему принимать решения, которые он сочтет нужными… я не вижу, каким образом он сможет выйти из создавшегося положения», — писал Иосиф Мерси. Вскоре оставшаяся часть духовенства с небольшим перевесом голосов также решила присоединиться к третьему сословию, а за ним и часть дворянства. Известие это возмутило королеву и удручило Людовика. Неккер, пытавшийся отыскать компромисс, представил проект декларации, согласно которой король объединял депутатов всех трех сословий и вводил всеобщее равенство в уплате налогов. Людовик вроде бы согласился с ним, но Совет, куда помимо министров он пригласил королеву «как мать наследника престола», принял — вопреки просьбе Неккера не уязвлять третье сословие, являющееся рупором общественного мнения, — совершенно иное решение, а именно провести «королевское заседание», дабы положить конец своеволию простолюдинов и вернуть все на круги своя. Для начала он велел закрыть зал Малых Забав на ремонт, лишив, таким образом, депутатов помещения для заседания. Тогда возмущенные депутаты заняли зал для игры в мяч, где принесли свою знаменитую клятву не расходиться до тех пор, пока не выработают конституцию.