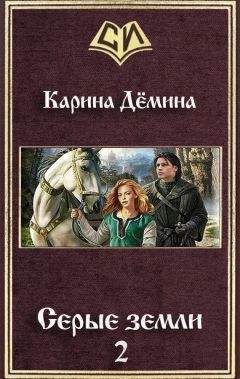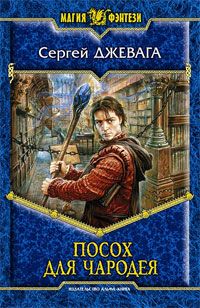Анри Труайя - Николай Гоголь
И позже тому же В. А. Жуковскому:
«О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон мне удалось видеть в жизни и как печально было мое пробуждение! Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге; но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все».[175]
Уже Пушкин становился в его глазах поэтическим образом, тонким предлогом, именем, который можно поставить во главе нового творения, чтобы подчеркнуть его исключительную важность.
Глава III
Рим
Путешествие по морю до Генуи, затем по суше до Рима не улучшило здоровье Гоголя.
«Я чувствую хворость в самой благородной части тела – в желудке, писал он Н. Я. Прокоповичу. – Он, бестия, почти не варит вовсе, и запоры такие упорные, что никак не знаю, что делать. Все наделал гадкий парижский климат, который, несмотря на то что не имеет зимы, но ничем не лучше петербургского».[176]
Нехватка денег – он приехал с двумястами франками в кармане – обязывала внимательно контролировать свои расходы. Он проживал за тридцать франков в месяц на улице Изодоро, 17, в комнате, полной картин, покрытых копотью, и белых статуй, пил каждое утро чашку шоколада за четыре су, потом плотно обедал за шесть су и позволял себе маленькую роскошь – маслянистое мороженое со взбитыми сливками, тающее во рту, в сравнении с которым мороженое у Тортони, по выражению Гоголя, казалось «дрянью». Несмотря на такой своеобразный режим питания, расстройства пищеварения начали проходить. Он приписал заслугу в своем чудесном выздоровлении оживляющему климату Италии. От столько мечтал об этой стране, что мог разочароваться, наконец встретившись с ее ландшафтами и народом. Но ничего подобного. Действительность моментально превзошла все его ожидания. Все, что он воспел в стихах, когда был еще совсем юн, ничего не зная о Риме, он повторял теперь в прозе, в письмах друзьям:
«Что тебе сказать об Италии? Она прекрасна. Она менее поразит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь более и более, видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи?.. прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? – он так чист, что дальние предметы кажутся близкими».[177]
«Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить».[178]
«Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи „прости“ другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю».[179]
«Моя красавица Италия! Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня. Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине».[180]
«Невозможно ждать лучшего от судьбы, чем умереть в Риме. Здесь человек находится ближе всего к Богу, чем в других местах».[181]
«Родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет… Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере семьсот ангелов влетают в носовые ноздри… Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос: чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны…».[182]
Все время эта навязчивая идея о носе, отделенном от туловища, произведенном в ранг независимого персонажа и шагающем по городу в поиске незабываемых запахов! Климат Италии очень подходил Гоголю, который, хотя и был уроженцем той части России, где зимы особенно суровые, никогда не мог привыкнуть к холоду. Солнце оживило его окоченевшие члены и развеяло мрачные мысли. Думать и работать ему казалось также очень благоприятным под голубым небом. Даже пейзаж здесь был успокаивающим, все равно что картина искусного художника, исполненная в теплых спокойных тонах. Вся Швейцария с ее грудой гор, ледниками и скалами не стоила тихого римского загородного пейзажа. На этой земле равновесия и света могло родиться только чистое искусство.
Человек с неспокойной душой, создатель кривляющихся чудищ, Гоголь боготворил Рафаэля. В его глазах он затмевал всех художников четырех столетий, от классицизма до барокко. Кроме того, ничего не было лучше античной архитектуры, чьи руины побуждали его к безмятежному созерцанию и размышлению. Его ум, привыкший к темным лабиринтам мысли, к обрывам, к падениям в пропасть, изумлялся при виде благородной геометрии римских памятников. Переходя от одного к другому, он различал в этих камнях «Древний Рим в грозном и блестящем величии, или Рим нынешний в его теперешних развалинах. На одной половине его дышит век языческий, на другой – христианский, и тот и другой – огромнейшие две мысли в мире».[183]
Ему даже казалось, что это соединение было настолько привлекательным, что если бы Бог ему позволил выбрать между Древним Римом «в грозном и блестящем величии» и Римом сегодняшним «в его теперешних развалинах», он бы предпочел жить в последнем, не только потому, что усеченная колонна, обвитая плющом, выделяясь на голубом небе против солнца, более живописна, чем современное здание, но еще и потому, что из него исходит такой необычайный покой, что забываешь о современном мире среди развалин исчезнувшей цивилизации.
Чем больше в его жизни было шума и суеты, тем больше его успокаивала неподвижность творений далекого прошлого. Все, что действовало, менялось, все, что пробивалось вперед в искусстве и политике, по его мнению, было проявлением зла. У народа, обращенного к будущему, одна только глупость и безвкусица в голове. Их беспорядочные движения нелепы. Единственная утешительная музыка звучит из пучины минувших лет. В Риме море лет бьется волнами о скалы святого острова. Этот город заслуживает названия «вечный Рим», так как он вне времени. «Везде доселе, – писал Гоголь Данилевскому, – виделась мне картина изменений; здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет».[184]
С неутолимой жаждой открытий он носился по музеям, церквям, дворцам, любовался руинами древних храмов, мечтал в Колизее при свете луны, приходил в восторг от порфировой колонны, затерявшейся посреди вонючего рыбного рынка, неожиданно открывал для себя останки императорских бань, храмов, гробниц, разнесенных по полям, любил оглянуть эти поля с террасы какой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано в часы заходящего солнца, склонялся перед разбитыми статуями, он находил все равно прекрасным: триумфальную арку, потемневший фронтон, дикие вьющиеся растения, карабкающиеся по стенам, трепещущий рынок среди молчаливых громад, лимонадчик с воздушной лавчонкой перед Пантеоном.[185] В своей восторженности он доходил до того, что датировал свои письма 2588 годом от основания города. Но и современный Рим, словно прилепившийся к античному и средневековому Риму, наполнял его невыразимым восхищением. Он погружался с наслаждением в его извилистые улочки, вдыхал пряные запахи, проходя мимо продуктовых лавок, умилялся, видя стадо козлов, щипающих травку между булыжниками, уличной мостовой или как шумные ребятишки нежатся под солнцем у журчащего фонтана, провожал уважительным взглядом аббата с треугольною шляпой, черными чулками и башмаками, кланялся капуцину, чье одеяние «вдруг вспыхивало на солнце светло-верблюжьим цветом», уступал дорогу кардинальской карете с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами. Тут даже грязь и нищета были самим воплощением красоты. Улочки, обвешенные разноцветным бельем, становились произведением искусства. Разложенные в витрине белые пузыри, лимоны, листья и подсвечники вызывали желание схватить кисть и запечатлеть их на полотне. И даже разговоры и суждения, услышанные на улицах, в кафе, в остериях, отличались своей веселой живостью от все того, что ему приходилось слышать в городах Европы.