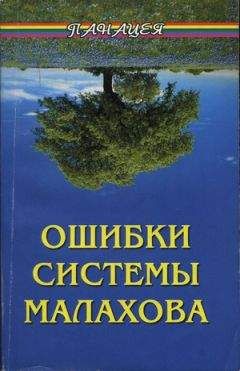Федор Шаляпин - Маска и душа
Роботъ! Русская культура знала въ прошломъ другого сорта роботъ, созданный Александромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ по плану пророка Исайiи.
И шестикрылый Серафимъ
На перепутьи мнѣ явился.
Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горнiй ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подземный ходъ,
И дольней лозы прозябанье…
И онъ къ устамъ моимъ приникъ
И вырвалъ грешный мой языкъ,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замершiя мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угль, пылающдй огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ, въ пустынѣ я лежалъ…
Чѣмъ не роботъ? Но вотъ…
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
«Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей».
А тов. Куклинъ мнѣ на это говорить:
— Ты ничего не понимашь. Шестикрылый Серафимъ, дуралей, пролетарiату не нуженъ. Ему нужна шестистволка… Защищаца!..
А мнѣ, тов. Куклинъ, нужнѣе всего, именно то, что не нужно. Ни на что не нуженъ Шекспиръ. На что нуженъ Пушкинъ? Какой прокъ въ Моцартѣ? Какая польза оть Мусоргскаго? Чѣмъ послужила пролетарiату Дузе?
Я сталъ чувствовать, что роботъ меня задушитъ, если я не вырвусь изъ его бездушныхъ объятiй.
73Однообразiе и пустота существованiя такъ сильно меня тяготили, что я находилъ удовольствiе даже въ утомительныхъ и мало интересныхъ поѣздкахъ на концерты въ провинцiю. Всетаки ими изрѣдка нарушался невыносимый строй моей жизни въ Петербургѣ. Самое передвиженiе по желѣзной дорогѣ немного развлекало. Изъ окна вагона то вольнаго бродягу увидишь, то мужика на полѣ. Оно давало какую то иллюзiю свободы. Эти поездки были, впрочемъ, полезны и въ продовольственномъ отношенiи. Прiѣдетъ, бывало, какой нибудь человѣкъ изъ Пскова за два-три дня до Рождества. Принесетъ съ собою большой свертокъ, положитъ съ многозначительной улыбкой на столъ, развяжетъ его и покажетъ. А тамъ — окорокъ ветчины, двѣ-три копченыхъ колбасы, кусокъ сахару фунта въ три-четыре…
И человѣкъ этотъ скажетъ:
— Федоръ Ивановичъ! Все это я съ удовольствiемъ оставлю Вамъ на праздники, если только дадите слово прiѣхать въ Псковъ, въ маѣ, спѣть на концертѣ, который я организую… Понимаю, что вознагражденiе это малое для васъ, но если будетъ хорошiй сборъ, то я послѣ концерта еще и деньжонокъ вамъ удѣлю.
— Помилуйте, какiя деньги! — бывало отвѣтишь на радостяхъ. Вамъ спасибо. Прiятно, что подумали обо мнѣ.
И въ маѣ я отпѣвалъ концертъ, «съѣденный» въ декабрь…
Такiе визиты доставляли мнѣ и семьѣ большое удовольствiе. Но никогда въ жизни я не забуду той великой, жадной радости, которую я пережилъ однажды утромъ весной 1921 года, увидѣвъ передъ собою человѣка, предлагающаго мнѣ выехать съ нимъ пѣть концертъ заграницу. «Заграница» то, положимъ, была доморощенная — всего только Ревель, еще недавно русскiй губернскiй городъ, но теперь это, какъ-никакъ, столица Эстонiи, державы иностранной, — окно въ Европу. А что происходить въ Европѣ, какъ тамъ люди живутъ, мы въ нашей совѣтской чертѣ оседлости въ то время не имѣли понятiя. Въ Ревелѣ — мелькнуло у меня въ головѣ — можно будетъ узнать, что дѣлается въ настоящей Европѣ. Но самое главное — не сонъ это: передо мною былъ живой человѣкъ во плоти, ясными русскими словами сказавшiй мнѣ, что вотъ онъ возьметъ меня и повезетъ не въ какой нибудь Псковъ, а заграницу, въ свободный край.
— Отпустятъ ли? — усумнился я. — Я вспомнилъ, сколько мнѣ стоило хлопотъ получить разрѣшенiе для моей заболѣвшей дочери, Марины, выѣхать въ санаторiю, въ Финляндiю, и какъ долго длились тогда мои хожденiя по департаментами
— Объ этомъ не безпокойтесь. Разрѣшенiе я добуду.
Дѣйствительно, меня отпустили. Поѣхали мы втроемъ: я, вiолончелистъ Вольфъ-Израэль и, въ качествѣ моего аккомпанiатора, еще одинъ музыкантъ Маратовъ, инженеръ по образованiю. Захватилъ я съ собою и моего прiятеля Исайку. Что банальнѣе перѣезда границы?
Сколько я ихъ въ жизни моей переѣхалъ! Но Гулливеръ, вступившiй впервые въ страну лилипутовъ, едва ли испыталъ болѣе сильное ощущенiе, чѣмъ я, очутившись на первой заграничной станцiи. Для насъ, отвыкшихъ отъ частной торговли, было въ высшей степени сенсацiонно то, что въ буфетѣ этой станцiи можно было купить сколько угодно хлѣба. Хлѣбъ былъ хорошiй — вѣсовой, хорошо испеченный и посыпанный мучкой. Совѣстно было мнѣ смотрѣть, какъ мой Исайка, съ энтузiазмомъ набросившись на этотъ хлѣбъ, сталъ запихивать его за обѣ щеки, сколько было технически возможно.
— Перестань! — весело закричалъ я на него во весь голосъ. — Прiѣду — донесу, какъ ты компрометируешь свою родину, показывая, будто тамъ голодно.
И сейчасъ же, конечно, послѣдовалъ доброму примѣру Исайки.
Мои ревельскiя впечатлѣнiя оказались весьма интересными.
Узналъ я, во-первыхъ, что меня считаютъ большевикомъ. Я остановился въ очень миломъ старомъ домѣ въ самомъ Кремлѣ, а путь къ этому дому лежалъ мимо юнкерскаго училища. Юнкера были, вѣроятно, русскiе. И вотъ, проходя какъ то мимо училища, я услышалъ:
— Шаляпинъ!
И къ этому громко произнесенному имени были прицѣплены всевозможныя прилагательныя, не особенно лестныя. За прилагательными раздались свистки. Я себя большевикомъ не чувствовалъ, но крики эти были мнѣ непрiятны. Для того же, чтобы дѣло ограничилось только словами и свистками, я сталъ изыскивать другiе пути сообщенiя съ моимъ домомъ. Меня особенно удивило то, что мой импрессарiо предполагалъ возможность обструкцiй во время концерта. Но такъ какъ въ жизни я боялся только начальства, но никогда не боялся публики, то на эстраду я вышелъ бодрый и веселый. Страхи оказались напрасными. Меня хорошо приняли, и я имѣлъ тотъ же успѣхъ, который мнѣ, слава Богу, во всей моей карьерѣ сопутствовалъ неизмѣнно.
Эстонскiй министръ иностранныхъ дѣлъ, г. Биркъ, любезно пригласилъ меня на другой день поужинать сь нимъ въ клубѣ. По соображенiямъ этикета, онъ счелъ необходимымъ пригласить и совѣтскаго посланника, нѣкоего Гуковскаго, впослѣдствiи отравившагося, какъ говорили тогда, — по приказу. Я былъ прiятно взволнованъ предстоявшей мнѣ возможностью увидѣть давно невиданное мною свободное и непринужденное собранiе людей, — членовъ клуба, какъ я надѣялся. Я нарядился, какъ могъ, и отправился въ клубъ. Но меня ждало разочарованiе: ужинъ былъ намъ сервированъ въ наглухо закрытомъ кабинетѣ. Правильно или нѣтъ, но я почувствовалъ, что министръ иностранныхъ дѣлъ Эстонiи не очень то былъ расположенъ показаться публикѣ въ обществѣ совѣтскаго посланника…