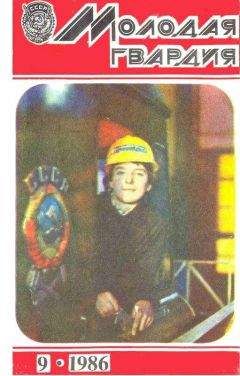Эраст Кузнецов - Павел Федотов
Впрочем, Брюллов сохранял в разговоре привычный для него доброжелательный тон старшего и опытного, и это было совершенно естественно, а пиетет Федотова перед ним нисколько не поколебался, и он жадно внимал тому, что говорилось.
«“…Отчего же вы пропали-то? Никогда ничего не показывали?” — “Недоставало смелости явиться на страшный суд, так как еще мало учился и никого еще не копировал”. — “Это-то, что не копировали, и счастье ваше. Вы смотрите на натуру своим глазом. Кто копирует, тот, веруя в оригинал, им поверяет после натуру и не скоро очистит свой глаз от предрассудка, от манерности”». Федотов отвечал, что еще очень слаб в рисунке. Брюллов успокоил его: «Центральная линия движения у вас верна, а остальное придет. Продолжайте с Богом, как начали».
Дальше разговор пошел более конкретный: Брюллов указал на то, что «Свежий кавалер» скомпонован немного тесно, и посоветовал сделать еще вариант — пошире, попросторнее. Федотов слушал внимательно. К «Свежему кавалеру» он возвращаться не собирался, но советы все были профессиональные, точные и совпадали с тем, что самому ему думалось. Особенно запомнилось — «не слишком увлекаться сложностью гогартовскою: “У него карикатура, а у вас — натура”». А он мечтал «затмить Гогарта»! Было от чего закружиться голове.
Ободренный и обнадеженный, Федотов представил в Академию художеств и начатое «Сватовство майора». Опасения его были совершенно напрасны. Академические профессора не могли не воздать мастерству и в композиции, и в фигурах, и в самой живописи. Что же касается сюжетов, то в них не содержалось ничего предосудительного. Низкий жанр искусства во веки веков существовал рядом с высоким, нисколько не покушаясь соревноваться с последним, но, напротив, даже оттеняя его бесспорное превосходство, и многие великие не раз отдавали дань низкому жанру, снисходя к потребностям публики.
Словом, совет Академии художеств одобрил «Разборчивую невесту» и признал Федотова «назначенным в академики», иначе сказать, предоставил ему право добиваться звания академика, написав специально для того картину по утвержденному эскизу — программе. Такой программой стало начатое «Сватовство майора». Конечно, тут не обошлось без вмешательства всесильного Брюллова — снова отдадим ему должное, скорее всего, он не ограничивался добрыми напутствиями.
Скорее всего, по совету того же Брюллова, Федотов подал 6 июня ходатайство, прося академию, «если она его способности, направление и первые опыты найдет достойными внимания, не отказать ему в весьма небольшой помощи хотя для выполнения программы», заодно напомнив, что он до сих пор не получил обещанной ему казенной мастерской. Ходатайство, пройдя положенные канцелярские круги и удостоившись резолюции высочайшего президента Академии художеств герцога Лейхтенбергского, было рассмотрено правлением. Федотову выделили 200 рублей серебром (или 700 ассигнациями — его пособие за семь месяцев), и поручили инспектору А. Крутову отвести ему мастерскую в здании академии. Деньги Федотов получил, а мастерской — снова нет: свободных не оказалось, надо было дожидаться, да не просто дожидаться, а ходить, напоминать, угодничать, жаловаться, унижаться — не дождался. Правда, строилась в это время большая мастерская для Богдана Виллевальде — так то был Виллевальде, не чета ему, наследник Зауервейда, прославленный баталист. Сам виноват — сошел с верного пути.
Срок представления картины был определен в сентябре, оставалось три месяца — все лето. Оно выдалось трудное. Еще в майские, невиданно теплые дни (доходило до плюс 23 градусов в тени) петербургские обыватели, взбудораженные непрекращавшимися слухами, политическими известиями и невеселящими анекдотами, услышали о давно уже не посещавшей их холере. Сообщения о ней приобретали все большую тревожность, холера приближалась и, наконец, явилась: 4 июня умер диакон Иванов, только что приехавший из Новой Ладоги, а через несколько дней стали умирать десятками, потом сотнями. Все, кто мог, бежали из города. Сезонные рабочие потянулись обратно в свои деревни — и трупами оставались на дорогах. На Васильевском острове, близ Андреевского рынка, начались беспорядки — ловили и забивали до смерти «отравителей», будто бы виновных в море.
Федотова бедствия миновали. Сейчас главная его работа была дома, на улицу не совался. От холеры уберегся — ничего сырого с Коршуновым не ели, всё варили сами. А к концу июня холера заметно пошла на убыль.
Да и не до холеры было. Это только кажется, что три месяца много; на самом деле, даже когда весь материал собран и картина начата, — очень мало. Надо было стараться. Любая ошибка в отделке могла испортить полугодовой труд. Гордыня одолевала: ему уже мало было, чтобы действующие лица отчетливо говорили каждый за себя, чтобы сюжет обрисовался ясно и последовательно, чтобы мысль авторская была ощутима, — нет, и сама картина, этот небольшой кусок холста, должна была являть собою высокое совершенство, не уступающее совершенству работы краснодеревщика, ювелира или искусной вышивальщицы: «Живопись требует добросовестности… Пожалуй, я настолько сумею, чтоб обмануть глаз других, но не всех и не самого себя. Всякая неверность режет мне глаза. Чтобы картина была хороша и не конфузила художника, нужно, чтоб она была верна по мысли и по кисти…»
И это было ему по силам.
Отныне он всецело владел колоритом, и каждый цвет, оставаясь вполне самим собою, сохраняя свою привлекательную силу, не лез в глаза резким пятном, а естественно сопрягался с другими, как соседними, так и дальними, образуя с ними вместе красивое и закономерное целое. Федотов чутко улавливал эти тайные связи, заставляющие один цвет отзываться в другом. Густо-розовая скатерть откликалась в красноватом тоне мебели и обивки стульев, в красном воротнике Майора, в росписи потолка, в неясном свечении натертого паркета, в золотисто-розовых переливах атласного платья и даже в румянце на щеках Дочери. А навстречу ему, теплому тону, распространялся холодный, зеленый. От светлой стены позади Майора и от его мундира, через платки на головах Свахи и Матери, эта зелень словно разливалась слабой, едва уловимой прохладностью в густо затемненной глубине, откликалась в холодной белизне салфетки слева, в темном узоре на розовой скатерти, в неясной, скорее угадываемой, чем различимой, зеленоватости гирлянд на потолке, в холодноватых тенях, просвечивающих сквозь белое платье Дочери.
Он в совершенстве овладел искусством распределения света и тени. Ушло куда-то далеко то, в сущности, совсем недавнее время, когда он, терзаясь ощущением беспомощности, все затемнял и затемнял в «Свежем кавалере» глубину комнаты, с тем чтобы люди и предметы первого плана хоть как-то выступили вперед, оторвались от нее, или когда он в «Разборчивой невесте» сильно высвечивал главное, уводя в тень ненужные ему края и углы. Там он был слуга света и тени, здесь — их полновластный хозяин, обращающийся с ними по собственному усмотрению. Он мог позволить себе набросить пелену густой тени на один угол, а на другой — мягкую золотистую дымку; мог одну фигуру слить с тенью, словно утопить в ней, а на другую словно навести яркий фонарь; мог вдруг заставить замерцать в нужном ему месте край багетной рамы или хрустальные подвески люстры. И все это — не по здравому рассуждению, а по инстинкту истинного живописца, и все для того, чтобы темное и светлое не только служили смыслу, показывая то, что надо, и прикрывая то, что не надо, но и завели бы друг с другом собственную увлекательную для глаза игру, образовали бы самостоятельный сюжет.