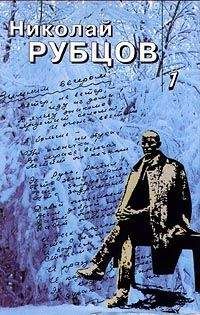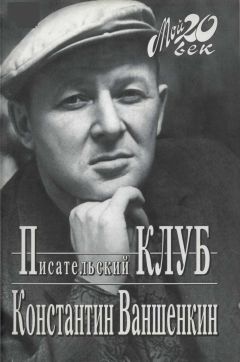Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
Я же перво — наперво хочу сказать здесь об ответственнейшей для начинающего поре, когда он еще нигде не числится, ни с кем не связан, а сам по себе, самому себе предоставлен. Может быть, в это время и вырабатываются самостоятельные качества, столь необходимые художнику, которые не приобретешь в литкружке. Ощущение — на всю жизнь — твоей ответственности перед всеми и что отвечаешь ты один.
«Начало было так далёко, так робок первый интерес». Это поразительно верно, и думаю, что бросившие сочинительство в ранней молодости (а были среди них и очень способные) вряд ли испытывают особые сожаления, — они еще не успели войти в это целиком, это не стало их жизнью, и они отказались от этого с легкостью, а ведь нельзя же с легкостью отказаться от жизни.
Что сказать о тогдашних собственных стихах? Мне кажется, начинал я слабо. Из тетрадочки, прочитанной Исаковским, я отобрал потом для первой книжки три стихотворения. Одно из них впоследствии было издано еще раз. И все.
По правде сказать, я даже немного удивился, встретив через несколько лет в книге у Михаила Васильевича такие слова:
«В свое время я читал также стихи молодых поэтов Константина Ваншенкина и Ивана Ганабина. И об этих стихах можно было с уверенностью сказать, что их авторы — люди талантливые».
Талантливые, да еще с уверенностью? Честное слово, если бы молодой поэт принес такие стихи мне, я бы, вероятно, не был столь снисходительным.
Но как бы там ни было, я получил записку и пришел с ней в журнал. Стихи мои напечатали — через полгода.
Два стихотворения, но не вместе, а в соседних номерах или через номер. Первым появилось стихотворение «Простреленный бушлат», именно то, которое я потом еще раз перепечатал.
И вот в течение этих шести месяцев я чуть ли не каждую неделю приходил в редакцию — узнать, как дела, скоро ли напечатают. «Советский воин» размещался на площади Коммуны, в ЦДСА, на самом верху. Я шел по длинному коридору, увешанному батальными картинами, мимо раскрытых дверей офицерского ресторана, мерцающего хрусталем и сияющего крахмальными салфетками, потом поднимался по служебной лестнице, где на этажах висели под стеклом приказы и выписки из воинских уставов, а поблизости гремел, репетируя. Краснознаменный ансамбль. Перед входом в редакцию, на лестничной площадке, курили молодые поэты, с несколькими я уже познакомился. Они ходили сюда как на службу и были в редакции своими людьми, да вот только почему‑то их никто не печатал. Они говорили, как о хороших приятелях, о Луконине, Межирове, Наровчатове, с которыми не были знакомы, называли их между собой Мишей, Сашей, Сережей, хвалили или не одобряли их стихи. Один посоветовал мне: «Собери рукопись и неси в «Совпис», как Сашка. А чего?..»
Я, разумеется, не послушался.
Так я ходил, ходил, а потом появилась гранка — длинная широкая лента мятой бумаги, на которой кое‑как, вкривь и вкось, но было набрано, напечатано мое стихотворение, а над ним поверх моей — крупно чья‑то фамилия. Что это, ошибка? Нет, это наборщик, это для удобства. А потом была верстка, стихи уже в полосе, на странице. А потом свежий, хрустящий и одновременно глянцевый номер журнала с моим стихотворением. Первый раз в жизни. Не помню в точности своего ощущения, — оно оформилось и укрепилось позднее, с последующими публикациями. А тогда взял журнальчик и пошел. Попросить еще один экземпляр даже не догадался.
Мне только сказали, когда получать гонорар. Бухгалтерия помещалась в другом районе — на Верхней Масловке.
И вот ведь какое дело. Страна едва — едва стала есть досыта: отменили карточки. Великой и горькой силой были они шесть лет кряду. Но еще было трудно. Хорошо тем, кто вернулся домой, в семью, на старую работу. А тем, кто все начинал заново, — среди молодых таких оказалось большинство, — было особенно тяжело, не хватало денег. Я жил на стипендию.
И, честное слово, за все те месяцы, что я исправно посещал журнал в терпеливом ожидании своего триумфа, я ни разу не помыслил о гонораре. И мои новые знакомцы, всезнающие советчики, говорили о чем угодно, кроме этого. Занимало совсем другое, а о ставках и расценках я не имел ни малейшего представления.
Через несколько дней я стоял в очереди к кассовому окошечку и гадал про себя, сколько получу. Сто? Двести? Пятьдесят? В тех деньгах, разумеется. Тогда они были новыми: только — только произошла реформа.
Вокруг, в темном коридоре, шумели, балагурили, здоровались и прощались знакомые между собой люди, военные и гражданские. Казалось, все друг друга знали. Подошла моя очередь, я сунулся в платежную ведомость и не поверил своим глазам. В стихотворении было сорок четыре строки. Платили по четырнадцать рублей за строчку. Я получил шестьсот рублей с мелочью. Шесть крупных, нереально новых сотенных купюр. Я небрежно сунул их в карман и спустился на улицу.
Стоял совершенно синий апрельский день. От солнца и луж слепило глаза. Я медленно шел по тротуару.
Подобная ситуация не раз описывалась в литературе: молодой писатель, получив первый гонорар, начинает лихорадочно подсчитывать, сколько он сможет заработать, пристроив все, что у него есть в наличии, или даже то, что он еще напишет, — и крах его планов в столкновении с действительностью. Я был удивлен, но ничего не считал и не планировал, смутно подозревая, что впереди все будет не так просто, да и не желая загадывать.
Настроение у меня было отличное. Блаженствуя в апрельской синеве, я вышел переулками к стадиону «Динамо», немало говорившему моему сердцу, остановился возле только что открывшегося павильона — закусочной, взял бутылку пива и два бутерброда с уже подсыхающей красной икрой. Стоя перед высоким круглым столиком, я медленно пил пиво, время от времени проверяя, не потек ли бумажный вощеный стаканчик, и смотрел на голые еще стволы Петровского парка, на красный трамвай, на футбольную афишу возле касс.
В «Советском воине» шло у меня еще одно стихотворение, оно нравилось мне гораздо меньше первого, но ведь не я выбирал. К тому же его сократили, подрезали как‑то не очень деликатно. Но все равно — мое. Я зашел посмотреть верстку. За время моего отсутствия в редакции случились перемены. Вместо мягкого и доброжелательного Михаила Спирова, перешедшего в газету Московского военного округа, появился решительный и резкий бритоголовый майор, поэт, совсем недавно ставший широко известным, свежий лауреат. Он заявил мне без обиняков:
— Стихи ваши мне не понравились. Это мы напечатаем, чтобы не ломать верстку, лишь по этой причине. Вы вообще не поэт, а только заявка. Таких, как вы, в одном Смоленске человек двадцать.