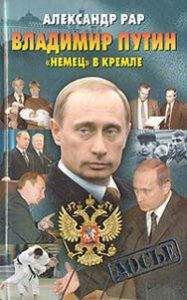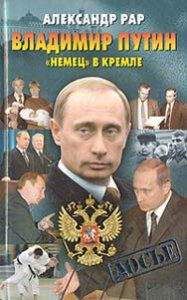Юрий Лощиц - Григорий Сковорода
Издавались и учебники. Но тогда это дело было еще сравнительно новое, и гораздо чаще, чем печатными трудами, преподаватели пользовались собственными рукописными трактатами. Каждый наставник считал для себя делом чести не повторять курсы, которые читались на кафедре до него, а составить спою оригинальную «систему». Со временем, когда печатании учебной литературы сделалось более регулярным и рукописные «системы» стали постепенно выходить из моды, многими это было воспринято как явный и плачевный упадок преподавательского уровня.
Пройдут годы, и Григорий Сковорода учитель пиитики и автор отвергнутого местным начальством трактата по теории стихосложения — на собственном грустном опыте убедится, насколько в преподавательском деле велика разница между творчеством и упрямым вещанием общеизвестного.
Но это все позже будет. А пока для него уже радость, если доверят ему вместе с группой сверстников переписывать набело для нужд училища какую-нибудь редкостную книгу, в которой преподаватели испытывают острую нужду. Такая работа для студентом считалась почетной. Поручали ее самым грамотным и усидчивым юношам, имеющим каллиграфический почерк. Каждому переписчику назначался определенный урок — часть текста, с которой ему нужно было сделать список. Потом отдельные тетрадки-задания сшивались, и получалась новая книга.
Это был древний, многими поколениями книжных людей проверенный способ «тиражирования». Им в Киеве пользовались еще во времена Ярослава Мудрого.
Традиция сохранилась и в XVIII веке: в одном из архивных документов наш Сковорода значится в списке 35 студентов, которые изготовили для киевского митрополита копию с ученого трактата. Четкий каллиграфический почерк остался у него на всю жизнь.
Симон Тодорский да Симон Тодорский… Только и разговору было об этом человеке. Вся Академия о нем говорила, перемешивая действительное с фантастическим. Нет де на белом свете такого человека, с которым бы Тодорский не сумел объясниться на его родном языке. Если и можно де сравнить его с кем, так разве лишь, с апостолами, когда они вдруг чудесным образом заговорили на всех языках сразу.
Кто же он на самом-то деле, этот загадочный и необыкновенный Тодорский? Новый Симон маг, чернокнижник, дружащий с бесами, или необычайный дар и вправду сообщен ему святым духом?
Наконец, Тодорский объявился, страсти понемногу улеглись, и сквозь небывальщину проступили факты. Больше десяти лет ездил по Европе киевский студент Тодорский. Побывал в Ревеле, занимался в Магдебургской академии, учился в Галле у знаменитого ориенталиста Михаэлиса, потом и сам преподавал в Венгрии. Экзотическая слава полиглота сопутствовала ему везде.
С возвращением Тодорского в Киев здесь открываются дополнительные классы древнееврейского, немецкого языков и возобновляется преподавание греческого. С по меньшим успехом он мог бы преподавать еще и халдейский, сирийский, арабский. Его познания в области восточных языков были явно чрезмернее, чем запросы Академии, и через несколько лет Тодорский был затребован в Петербург.
Но разработанные им методы преподавания еще долго давали свои плоды. Свидетельство этому хотя бы такой курьезный факт: многочисленная колония греческих переселенцев, существовавшая тогда в Нежине, не раз запрашивала из Академии учителей… греческого языка.
Да, Тодорский поражал современников своими познаниями. Но что касается его европейской одиссеи, то она, впрочем, не являлась для них чем-то сверхобычным. Нет, учиться на Запад ездили многие, и это было скорей нормой, чем исключением из правил. Не найти, пожалуй, в Европе ни одного знаменитого своими науками центра, где бы не побывали в разное время любознательные и дотошные киевские школяры. Кто в Сорбонне учился, кто посетил германские университеты, кто слушал лекции в Падуе и в Болонье. Даже Англия открывала свои берега упорным киевлянам. Что уж говорить про Рим! И совсем почти не в счет — соседние земли — университеты Краковский или Виленский.
Но не только сами езживали за кордон — студентов иноземцев постоянно у себя содержали; и не в малом числе.
…На рождественской неделе, подкормившись подольскими домашними колбасами, вдруг вспоминали школяры: давненько уже комедий не играли.
Небо — для ангелов, для тихого их порхания и нежного пения; земля — для людских потасовок и перебранок, от которых бороды летят по ветру; адская пропасть— для бесовского легиона, для сонма грешников… Такова сцена, три наскоро сколоченных этажа, на которых лицедействуют школяры, разыгрывая бурные, под громыхание громов, действа.
Комедии с интермедиями и мистерии из академического репертуара ставились в учебном корпусе, а если дело было к лету, то прямо под открытым небом, на поляне у горы Скавыки — там было традиционное место студенческих весенних праздников — рекреаций.
Объявлялось какое-нибудь «Торжество естества человеческого», или какое-нибудь «Благоутробие Марка-Аврелия», или какая-нибудь «Свобода от веков вожделенная» — весь город еще гуще, чем на диспутации, валил к «академикам». Тут Жизнь спорила с курносой Смертью, являлись «поганские» богини — нарумяненная Юнона и угрюмая Фортуна, «три цары со дары» под путеводной звездой стояли у входа в вифлеемскую пещеру. Настоящий Пилат умывал тут руки, а Ирод проваливался сквозь сцену, падал в яму, которую себе же вырыл, и падение его сопровождалось улюлюканьем сатанинской своры, хохотом самого князя тьмы — Люцыфера.
Это были серьезные и даже страшноватые, но все-таки игры (Ludi по латински). А в перерывах между Ludi разыгрывались еще и интерлюдии, они же интермедии. На них то в первую очередь и ломился пестрый киевский люд, вплоть до закоренелых нелюдимов.
О небе и небесном в интермедиях уже не вспоминалось. Тут была сплошняком земля, рытая-перерытая, до горечи знакомая, но в силу того, что она теперь показывалась со сцены, — до боли в челюстях смешная.
Кто-то кого-то колотил, обдуривал, спаивал; показывали друг другу рожи и другие части тела, плясали до упаду, орали песни, болтали на разных языках. Москаль-солдат усиленно тут акал, а чванливый паныч-поляк дзенькал, плутоватый цыган сыпал базарным жаргоном и холоп-белорус изъяснялся по-своему. Тут встречались бродячий астролог, бабка-знахарка, пастух, шинкарка, торговец, гадалка, черт, пан, забулдыга, богатый и голодранец, толстый и тощий… Какие все знакомые фигуры! Аи да лихую комедию заломили паны студенты!
Зритель-обыватель по горло насыщался бывальщинами и небылицами. Разойдутся и долго будут еще вспоминать, сокрушенно качать головами: ну и комедия! Но потом забудут. А Григорий Саввич Сковорода через несколько десятилетий скажет с виду простенькое, незамысловатое: «Свет подобен театру».