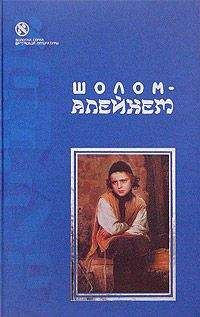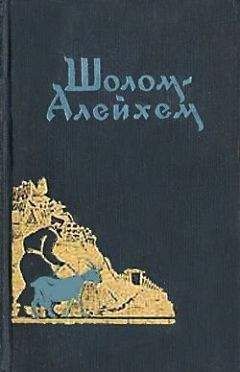Лев Друскин - Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта.
До такого хитроумного изобретения могла додуматься только еврейская голова!
Милый и смешной образ деда настойчиво просился в стихи, и я не сумел ему отказать.
В веселый день сорокалетья
Так странно думать мне, друзья:
Жил человек на белом свете
И был Лев Друскин, как и я.
Он был, как я, Менахем-Мендл:
Поэт, мечтатель, сумасброд.
И бабка плакалась соседям
И подавала на развод.
Он ничего — чудак — не нажил,
Он так и умер бедняком,
Но ангелы спускались даже
К нему от Господа тайком.
И вот он входит — ты не смейся! —
Он первый гость в моем дому.
Он говорит, потрогав пейсы,
Как все здесь нравится ему.
И у тебя прощенья просит,
Что он не в модном сюртуке,
42
И тост красивый произносит
На непонятном языке.
И я сажусь поближе к деду,
И мы, забывши обо всем,
Ведем ученую беседу
О том — о сем, о том — о сем.
Это стихотворение — из любимых. Но не обошлось без конфуза. Дедов я, оказывается, перепутал. Чудаком и изобретателем был не Лев, а Илья, не Друскин, а Тумаркин.
КТО БОЛЕЕ ВЕЛИК?-
В детстве я часто задумывался: кто более велик — Пушкин или Сталин? И всегда отвечал себе: "Нет, все-таки Сталин". Пройдут века, вернее тысячелетия, Пушкин забудется, а имя Сталина будет сиять вечно.
ГРИБНОЙ СУП –
Теперь, припоминая, я вижу много горьких примет нашей бедности, хотя я долго, черезчур долго их не замечал.
Мы покупали серую булку, а булку за рубль сорок пять никогда.
Селедку резали маленькими кусочками. Взять два кусочка считалось неинтеллигентным.
Пирожные я за все детство пробовал три-четыре раза. Иногда мама устраивала "картофельный бал" — масло, простокваша в глиняном горшке (она была необыкновенно вкусной и резалась кусками) и большое блюдо, на котором в облаке пара навалом лежала картошка в мундире.
А еще вспоминается, как папа, вернувшись из санатория, рассказывал маме, что клал ложку масла во все — и в первое, и во второе, а я не мог понять: зачем? Ведь противно же!
Глаза у меня открылись неожиданно. На обед сварили любимый грибной суп. Жили мы, кажется, на даче, в Тайцах.
43
Папа подрядился на лето заведовать аптекой и нам дали бесплатно комнату с верандой.
Очистив полную тарелку, я попросил добавки. Мне принесли, но это оказался совсем другой суп — черный, неаппетитный, без сметаны. И вдруг меня резануло по сердцу: да это же тот суп, который ели родители. Для детей погуще, для них попроще!
Вечером я заставил папу все рассказать. Для того, чтобы отправить меня в Берлин на лечение, потребовалось много денег, и он вступил в частную аптечную артель. Артель лопнула. К счастью, никого не посадили, просто разложили долг на всех участников. Для нас сумма была нереально велика, однако власти и тут поступили гуманно: папу опять не арестовали. Но жизнь превратилась в кошмар — время от времени к нам являлись с обыском и описывали (и тут же отбирали) почти все, что удавалось приобрести.
И я отчетливо вспомнил непонятное: раскрытый шкаф, разбросанные по полу вещи, маму с заплаканными глазами, и добродушный голос незнакомого человека: "Да не убивайтесь вы так! Обещаю вам, это в последний раз. Больше мы не придем".
После папиной смерти дядя Лазарь внезапно подарил нам пианино. Я искренно подивился его щедрости. Через несколько месяцев, в грохочущем товарняке, увозившем нас в эвакуацию, я узнал из маминого уже почти предсмертного шепота, что пианино было наше — оно простояло долгие годы у дяди Лазаря, иначе его бы конфисковали.
Проклятая слепота детства и юности! Благословенная эгоистическая слепота!
РАЗВЕ МОЖНО УЕХАТЬ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА? –
К нам в гости часто приходил доктор Идельсон — красивый бородатый мужчина, казавшийся мне тогда стариком. Теперь, с вершины своего возраста, я предполагаю, что ему было лет тридцать пять. Родители с ним очень дружили.
44
И вдруг он перестал у нас бывать. Я спросил, почему. И мама сказала:
— Он уехал в Палестину.
— На время?
— Нет, насовсем.
До чего же это было удивительно! Разве из нашей страны можно уехать? И зачем? Я не мог припомнить ни одного такого случая. И потом, Палестина… Странная чужая земля, существовавшая две тысячи лет тому назад. Сказка из детского еврейского журнала «Колосья», выходившего до революции. Разве можно куда-нибудь уехать из Советского Союза? Я спрашивал себя об этом с недоумением.
Через много лет, находясь все в том же замкнутом пространстве, я напишу с тоской:
Неужели в городе Париже
Тюильри и Лувр и Нотр-Дам!
Я-то никогда их не увижу,
Никогда не побываю там.
Важный слон, склонившийся в привете,
Знойных островов архипелаг…
Есть ли Ява въявь на белом свете?
Есть, конечно, — я же не дурак.
Я не был дураком и в детстве. Я знал, разумеется, что такая страна — Палестина — есть на белом свете. Однако, изумление мое не проходило.
А доктор Идельсон появился в нашей квартире снова. Оказывается, это была только разведка, но разведка удачная. Он о чем-то долго и горячо говорил с папой — может быть, убеждал.
Вскоре он забрал с собой жену и сына и опять уехал — на этот раз навсегда.
45
НА ПОДОКОННИКЕ –
Снова лежу на подоконнике.
В подворотне, на противоположной стороне, о чем-то шушукаются три девушки. Каждая руками приподнимает грудь. Меряются: у кого больше?
Я только диву даюсь: да какая им разница?
ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ-
Сначала я вообще не хотел об этом. Но ведь я пишу исповедь. И потом, мне интересно, так ли это бывает у других?
Передо мной факсимильное издание "Огненного столпа" Гумилева. Вот одно из его самых блестящих стихотворений "Шестое чувство".
"Так мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем,
И ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем…"
И сразу время расступается.
Я лечился тогда в институте Турнера. Нам было по десять-двенадцать лет, но в нас уже властно говорил пол.
Когда нянечка Вера влезала на подоконник и мыла окно, мы, четверо мальчишек, не сговариваясь, поворачивались на спину, отодвинув в сторону подушки.
Что видели мы? Только узенькую белую полоску над чулком. Но не от этого ли не спалось нам по ночам?
А затем нахлынула юность. Женщины стали агрессивными. Они наступали, а я неизменно пасовал.
Учительница истории Валентина Сергеевна принимает у меня экзамен. Дело происходит дома. Отвечая, я кладу руку на край журнального столика и внезапно чувствую ее колено.