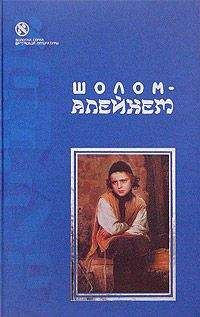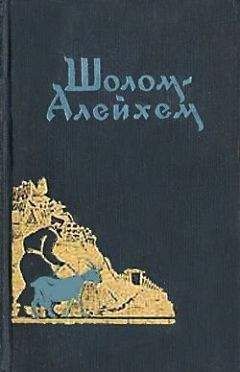Лев Друскин - Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта.
Не сможет он.
Так кто ж разделит счастие,
Мой друг, с тобой?
33
Поможет кто в несчастии?
Как жить одной?
Люблю тебя. Люби меня
И я женюсь.
Счастливы будем ты и я,
Тебе клянусь,
Под кровом высших радостей
Мы будем жить.
А об убитом в младости
Зачем тужить?
Тобой одной хочу владеть,
Тобой одной.
Хочу тебя при всех посметь
Назвать женой.
А там пусть обзываются,
Мне все равно.
Завидуют, ругаются,
Мне все одно.
Пусть сыплются проклятия —
Все счастлив я…
Приди ж в мои объятия,
Любовь моя!
Я не стану целиком приводить ответного монолога Сильвии. Вот заключительные строки:
Пусть вечно тучи грозовые
Над головой твоей висят,
И хладом капли дождевые
Тебя всего насквозь пронзят.
Убийце нету сожаленья!
Пролить ножом другого кровь,
Расторгнувши при том любовь —
Всех тяжелее преступленье.
Уйди, уйди без возраженья,
Ты недостоин даже мщенья!
(Генри плачет и уходит по дорожке, белой змейкой вьющейся между кустов.)
Занавес.
34
Это конец монолога и конец трагедии. И чтобы не было сомнений, под словом «занавес» так и написано — «конец». И опять нарисован кинжал, с которого капает кровь.
Как густо замешана моя девятилетняя наивность на Шиллере и Шекспире!
А это что? Тоже любимое — "Старик".
Истощились мои силы,
Стал я дряхлый и седой.
А бывало я кобылу
Поднимал одной рукой.
Честное слово, я завидую тогдашней живости и непосредственности.
Разумеется, на каждом шагу вторгалась и политика:
Блестит прозрачная вода,
Стоят советские суда.
И наша яхта среди них,
Как Сталин меж людей своих.
Что поделаешь, я — дитя своего времени!
Когда стихов накопилось много, папа понес их в редакцию «Ежа» и вернулся очень довольный.
— Сначала они не поняли, решили, я автор, и очень смеялись. Но потом, узнав, что это стихи моего маленького сына, стали их хвалить и обещали даже кое-что напечатать.
Все радовались, все поздравляли меня. И только я был втайне уязвлен.
"Они подумали, что папа автор? Ну и что из этого? Какая разница кто написал? Стихи-то все равно хорошие!"
Вообще, самомнение у меня было ужасное — я так и раздувался от гордости.
Узнав от мамы, что некоторые писатели выпускают свои произведения под псевдонимом, я придумал и себе — очень красивый — Авел Никсурд.
(Догадывались? Лева Друскин, если прочесть наоборот.)
Звучные, почти иностранные слова казались мне необыкновенно значительными, и я с наслаждением представлял себе
35
книги, книги, книги, обязательно в твердом переплете, и н каждом корешке золотом выдавлено это поразительное имя
Потом, кто-то сказал, что слово «никсурд» похоже н «абсурд», и от псевдонима я с сожалением отказался.
Остальное было прекрасно.
На уроках шитья и картонажного дела меня озаряло вдохновение, которое тщательно оберегалось. Переплетчик Иван Назарович обходил мою кровать на цыпочках.
А жаль! Как было бы удобно, если бы я сам умел переплетать книги.
СМЕШНОЙ Я БЫЛ МАЛЬЧИК-
Книги моего детства: "Маленький лорд Фаунтлерой" "Война и мир", "Сказки Киплинга", «Нана», "Том Сойер".
— Что ты понимал в "Нане"? — иронизирует моя жен Лиля.
— То же, что и ты в «Яме» Куприна, — парирую я. Память кладет на стол две толстые книги. "Искатели мозолей"(?) и "Джек Восьмеркин — американец". Во второй деревенский паренек Яшка случайно попадает в Америку и, вернувшись в родное село, устраивает такую модернизацию, что все мужики молниеносно богатеют.
Интересно, как посмотрели бы на этот сюжет сейчас?
Перечисляю дальше: "Алиса в стране чудес", почти все пьесы Шекспира, "Герой нашего времени" и «Пакет» Пантелеева — еще тот, замечательный, в непричесанном варианте с лихими взъерошенными словами, и особенно понравив— шимся мне непонятным словом "пирамидон".
А рядом Берроуз, будущий автор «Тарзана» с его марсианской серией. Как восхитительны для одиннадцатилетнего уха названия "Владыка Марса", "Дочь тысячи Джеддаков".
К тому же, ни автор, ни герой не утруждают себя нагромождением технической ерунды.
Если герою нужно на Марс, он ложится на землю, закрывает глаза и думает: "Хочу на Марс!"
36
И вот он уже там с мечом в руках и непрерывно сражается. Врагов десятки, сотни, но он так ловок, что перед ним "гора кровавых тел", а на его собственном теле ни единой царапины.
Ну а если уж марсиан тысячи, он не лезет на рожон, а поступает просто и мудро: ложится на траву, опять же закрывает глаза и думает: "Хочу на Землю!"
И он оказывается на земле, а противники оказываются в дураках.
Затем — Ник Картер. У меня это было еще до Шерлока Холмса.
Маленькие книжечки, заканчивающиеся, примерно, так:
"Он схватил ее за горло, замахнулся ножом и…"
Продолжение в следующем выпуске.
Стоит также сказать о "Всаднике без головы". Капитан Кассий Кальхаун добивался любви своей двоюродной сестры. А я недоумевал: "Ведь он и так ее брат — чего ему еще от нее надо?"
Вся эта фантасмагория была прошита ливнем стихов, в которых я разбирался в общем правильно. Пушкин мне нравился с самого начала, а Надсон никогда.
Выправлялся постепенно и вкус прозаический. Почти одновременно я прочел и Чарскую, и статью Чуковского "Тридцать три обморока".
Смешной я был мальчик. Умный, но наивный.
Я думал, что «Правда» это сокращенное название "Ленинградской правды", что аппендицит бывает только у мужчин, что бюстгальтер — это трусики.
И когда я читал в «Клопе» у Маяковского про уличного разносчика, предлагавшего "бюстгальтеры на меху", я так и представлял себе, что он продает меховые трусики.
Но разве это все?
Как я жалел киноактеров! Мне показали пленку и я ужасался: ведь для того, чтобы вскинуть руку, артисту надо сперва согнуть ее в локте, потом чуть-чуть приподнять, потом выше и выше — короткими отрывистыми движениями.
Я думал, что каждый кадрик снимается отдельно.
37
— Бедные! И они могут еще играть при этом? — удивлялся я.
А какими преимуществами обладает детство! У меня была любимая игра — заказывать время. Я говорил себе: завтра я проснусь двадцать три минуты восьмого. Я просыпала тютелька в тютельку, и очень гордился этим.
И другая игра: повернуться на спину и стараться, чтобь не было ни одной мысли. В те дни это никогда не получалось. Теперь, к сожалению, получается.
Я могу заставить себя лежать, не думая ни о чем, с совер шенно пустой головой.