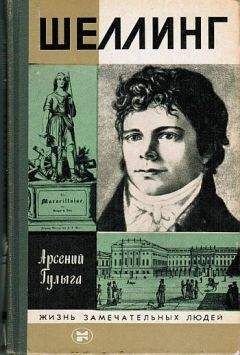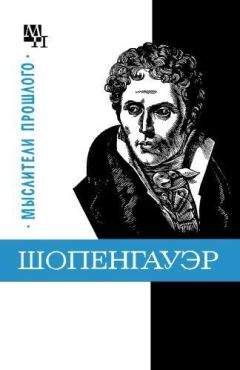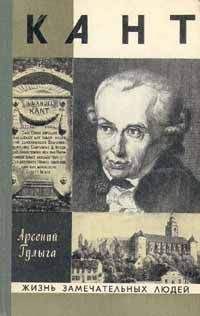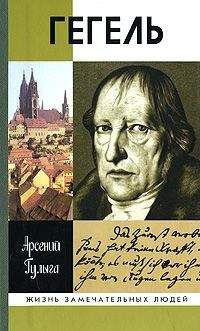Арсений Гулыга - Шопенгауэр
Послушание Артура объяснялось, скорее, двойственностью его натуры, которая проявлялась у него на протяжении всей жизни: он принадлежал, как и все мы (если по Канту), двум мирам — феноменальному и ноуменальному, и в высшей степени обременен миром феноменальным, житейским, будничным, возносясь на высоту лишь в мечтах и мыслях — и гораздо реже в поступках. Он хотел, но не мог преодолеть авторитет отца. Его влекли науки, но день приходилось простаивать за конторкой. В конечном счете Артура нельзя назвать бездеятельным; однако свое стремление к знаниям он утолял как нечто порочное. Он тайком посещал лекции по френологии, тайком читал в конторе книги, пряча их при появлении хозяина и сослуживцев.
Артур часто перечитывал подаренную отцом книжечку немецкого поэта и мыслителя Матиаса Клавдия (1740–1815). Наивная простота его песен, многие из которых стали народными, душевность, глубокая вера, пиетизм поэта, обращение к малым мира сего как зеркалу великого и вечного, и в то же время грусть и одиночество, звучавшие в его поэзии и размышлениях, усиливали двойственность жизненных ощущений Артура.
«Неизбежно придет время, / — писал поэт, — когда я отправлюсь в путь, / откуда никто не возвращается. / Я не могу взять тебя с собой, / оставляя тебя в мире, / где добрый совет отнюдь не лишний / … Человек здесь — не дома; / он чужой не потому, что здесь не ценят его внутреннего богатства, а потому, / что сокровенная его суть, / которая всегда противостоит внешней, затемнена: / мы здесь чужие, / ибо мы не призваны к вышнему миру./ Только в благочестивых сердцах / таится освобождение от непосильной тяжести земных страстей». Клавдий не восставал против этой двойственности, смиренно принимая человеческий жребий. Артур тоже. И в этом коренилась его верность завету отца.
Артур воспринимал свою земную жизнь как внешнее повеление, искал и не видел из нее выхода. Поневоле обращаясь к вышнему миру, он столкнулся с проблемой теодицеи. В записи 1807 года читаем: «Если все совершенно — самое великое и самое малое… тогда любое страдание, любое заблуждение, любой страх должен быть воистину единственно верным и лучшим из того, что есть…; однако кому под силу при этом оставаться лицом к лицу с таким миром? И тогда возможны только два других толкования: мы должны, если не считаем этот мир злым умыслом, противопоставить злой воле силу воли доброй, понуждающую окольными путями обойти зло; либо мы должны приписать эту силу всего лишь случаю, и тогда получится, что несовершенство устройства и мощи мира управляется волей» (134. Bd.l. S.9). В этой записи, кажется, впервые Артур размышляет о воле, которая станет ключевым понятием его учения. Он отвергает постулат Лейбница о том, что все к лучшему в этом лучшем из миров, не уповает также на мощь доброй воли, допуская, что зло можно победить лишь случайно и отнюдь не в лобовом столкновении.
Было от чего прийти в отчаяние. Артур выразил свои чувства в мрачном стихотворении: «Средь бурной ночи / я пробудился в страхе / от завываний, грохота, / в домах, дворах и башнях; / ни проблеска, ни лучика, / ни зги в глубокой ночи, / как будто солнца нет; / и мне казалось, что день уж не наступит никогда, / тогда мне стало так страшно, / так жутко; / я чувствовал себя таким одиноким и покинутым» (там же. S. 5).
Стихотворение было написано через десять лет после возникновения первых романтических произведений, но как раз в то время, когда появились «Ночные бдения» Бонавентуры, анонима, за которым, как многие думают, скрывался Шеллинг, пародировавший романтическое восприятие мира, где тьма символизировала утрату смысла и ориентации. «Ночь тиха, — писал Бонавентура, — и поистине ужасна, и в ней таится ледяная смерть, как невидимый дух…»
Но романтики на тьме не зацикливались. Они мечтали о свете, искали его — не в вере или разуме, а в музыке и поэзии. Об этих поисках Шопенгауэр узнал из творений Вильгельма Генриха Ваккенродера (1773–1798), зачинателя романтического движения, который в искусстве видел грядущего Бога. «Музыка, поэзия и любовь, — писал он, — небесные силы нового поколения, спасают от „механического колеса“ прозаической повседневности, от монотонного, ритмичного шума». Юный Шопенгауэр, читая романтиков, записывал: «Если убрать из жизни краткие мгновения, озаренные верой, искусством и чистой любовью, что останется, кроме череды тривиальных мыслей?» (134. Bd.l. S.10). А в главном его труде появится (быть может, по аналогии с Ваккенродером) «колесо воли», которое мчит и вращает людей, и только погружение в искусство способно остановить это вращение.
Что касается религии, то Шопенгауэру импонировала мысль о возможности боготворчества; говоря словами Ф. Шлейермахера, религиозен не тот, кто верит в Священное Писание, а тот, кто в нем не нуждается и способен создать собственную священную книгу, и эта книга — вечное искусство. Религия как искусство освобождается от догм и становится сердечным откровением, а искусство как религия придает этому откровению небесную святость. Так постепенно Артур не только уходил от веры отцов, но и готовил почву для собственного вероучения.
Он понимал двусмысленность ситуации, когда каждый, кто, сохраняя порядок отцов и в то же время желая стать творцом, может оказаться собственным ангелом смерти. Мысль о невозможности вознестись в неведомые выси божественного творчества Шопенгауэр выразил в стихах:
«О, страсть, о, ад! / О, чувства, о, любовь! / Не удовлетворенные, / Но и не побежденные, / вы низвели меня с небесной высоты / и бросили сюда, / в земное пепелище: / И тут повержен я — лежу в оковах» (134. Bd. 1. S. 1).
Двойственное отношение к миру — посюстороннему и запредельному, творчески воспринимаемому, культ и даже обожествление искусства — эти первые уроки романтизма навсегда укоренились в душе Артура, они отвечали его умонастроению. Он еще не знал, что романтизм вырос не на пустом месте, в частности, вспоенный благодатным источником — философией Канта.
Свободен!
Мать Артура Иоганна Шопенгауэр переселилась в Веймар в один из самых драматических моментов немецкой истории: 14 октября 1806 года в битве при Йене прусская армия была разбита Наполеоном и в панике бежала; в Веймар вступили французские войска. Иоганна в письме к сыну так описывает свое прибытие в Веймар: «…Я не могла избежать этого ужаса, который вначале показался не таким страшным. Позднее буря обрушилась на нас со всех сторон, так что никто не знал, где искать спасения. К тому же нельзя было достать лошадей, на улицах стало опасно; никто не мог указать мне, где можно укрыться; никто не предполагал, что битва разыграется столь близко от города, а затем на нас обрушится такой ужас.