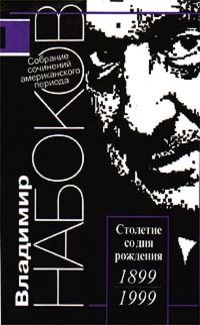Ю. Томашевский - Вспоминая Михаила Зощенко
И в поэме «Двенадцать» он видит:
«Тут уж новые слова, новое творчество, и не оттого, что устарели совершенно слова, и мысли, и идеи наши, нет, оттого, что параллельно с ними, побочно, живет что-то иное, что, может быть, и есть пролетарское».
И он считает, что «героический эпос с элементарнейшей основой во всем — явление ничуть не удивительное, — я совершенно был уверен, что такое «умирание» в искусстве, в частности в литературе, какие были в последние годы, вообще не способно к продолжительной жизни».
Зощенко как бы ставит крест на всей литературе начала века, он чувствует, что она изжила себя, что она была нереальной, «придуманной», что ей суждено умереть вместе с породившим ее и уходящим в историю больным и изломанным классом, на смену которому пришел другой класс, сильный и цельный новый человек.
Следующая глава книги «На переломе» — «О Владимире Маяковском» (1919, июль).
Поэзия Маяковского поразила, потрясла молодого Зощенко.
В двух своих статьях — «О Владимире Маяковском» и «Вл. Маяковский» — он с искренним удивлением говорит о нем. С удивлением и восхищением.
В первой статье он противопоставляет «футуриста» Северянина «футуристу» Маяковскому:
«Вот и Северянин непременно футурист, а ведь он и Маяковский, я бы сказал, под одним знаменем величайшая наглость контрастов».
Северянин — «поэт-эстет, последний из умирающих».
Маяковский — «тринадцатый апостол», несущий «новое свое евангелие».
Но тогда Зощенко знал только «Простое, как мычание» и «Мистерию-буфф».
Поэтому Маяковский представлялся ему лишь «разрушителем», кастетом, крушащим старый мир.
«Тот» Маяковский разрушал, отвергая все старое, еще не зная «новых слов о жизни», он даже как будто призывал начать жизнь сначала, с каменного века: «Бросьте города, глупые люди». Зощенко писал о нем как о вдохновенном глашатае:
«Он гениальнейший поэт хаоса, разрушения.
Он совершеннейший «тринадцатый апостол».
Он заворожил меня огромной силой своей, волей к разрушению, идеей физической силы.
Так привыкли мы к поэзии манерной Северянина, к прекрасной Гиппиус, к прекрасным строчкам Зайцева, нам поистине удивительна огромная воля к жизни поэта после умирания, пустоты, отчаяния и непротивления».
Это был 1919 года, когда казалось:
«Все разрушено, все разрезано ножом, кастетом и вдохновенными криками».
Но Зощенко и тогда уже верил, что «приходит гений» и начинает «все заново». «Камень к камню, кирпич к кирпичу».
Маяковский — первый поэт, которого «принимает» Зощенко, принимает потому, что вместо манерного, «придуманного» Северянина и «неживого» Зайцева видит в нем силу и волю к жизни.
Зощенко не ошибся: очень скоро Маяковский стал активно помогать революции не только разрушать, но и строить новый мир.
Во второй статье о Маяковском Зощенко разбирает «особенности» его творчества — его рифмы, метафоры, гиперболы, ритм, манеру.
«Все ново, кричит, как афиша, чтоб услышали, чтоб в память врезалось, впилось бы в мозг». «И его прелесть именно в физической силе, в здоровье, контрасте с последними умирающими».
«В нем отрицание индивидуализма».
За все это и дорог так Маяковский молодому Михаилу Зощенко.
В задуманную Зощенко книгу должна была войти и статья «Литературные фармацевты» (Брик, Шкловский, Эйхенбаум, Чуковский).
От нее сохранились лишь начальные наброски под заглавием «Поэтические фармацевты» — о тех, кто в последние, «удивительные годы» — 1918 и 1919-й — «считает, сколько было си-бемолей в целом цикле вагнеровских произведений», кто подсчитывает, «сколько каких букв было в пушкинской поэме».
Зощенко с недоумением отмечает, что «формальными подсчетами заняты десятки страниц прекрасных изысканий о Некрасове» Корнея Чуковского…
Особняком стоит статья молодого Зощенко о творчестве Тэффи.
Статья интересна именно потому, что в ней в некотором роде ключ к пониманию творчества самого Зощенко — юмориста, сатирика.
Тэффи — «смешная писательница», хотя она сама говорит о себе, что ее рассказы печальны.
В чем же источник ее «смеха»?
Зощенко считает, что «во всех ее рассказах какой-то удивительный и истинный юмор ее слов, какая-то тайна смеющихся слов, которыми в совершенстве владеет Тэффи, между тем как содержание ее рассказов часто бывает вовсе не смешным и даже трагичным».
«Тут смешны не анекдотические столкновения людей и не сами люди-шаржи, — прекрасно смешит интимный ее сказ, мягкий ее юмор в смешных нелепых словах…»
«Во всех ее книгах люди не похожи на людей… это какие-то уродливые карикатуры».
«Ее книги — сборник шаржей и удивительных карикатур».
«Тэффи берет жизненную карикатуру людей и снимает еще карикатуру.
Получается какой-то двойной шарж.
Уродство увеличено в 1000 раз.
Пошлость увеличена в 1000 раз.
Глупость увеличена до того, что люди кажутся часто ненастоящими, неживыми.
Однако оставлены 2–3 характернейшие черты — и в этом все мастерство и талантливость — безобразно преувеличенные дают жизнь и движение героям».
«Я подчеркиваю здесь пошлость и глупость. С этим-то и оперирует, главным образом, писательница».
Дальше Зощенко говорит о «современном» юморе вообще:
«Все коротко. На три секунды. Все напряженно. Нельзя скучать. Природа ушла вовсе, и если и есть, то смешная.
Все на 3-х страницах. Идея вся определена, не спрятана под конец, не растянута на сто страниц».
И когда Зощенко сам станет писателем-юмористом, он будет строить свои «смешные» рассказы как раз по этому «рецепту».
…Подходит зима 1920–1921 года, Зощенко-прозаик берет верх над Зощенко-критиком.
В эту зиму — темную петроградскую зиму, при свете лампадки (электричество давали лишь на два часа, а керосина в продаже не было) — пишет Зощенко свои первые, впоследствии напечатанные, «профессиональные» рассказы.
Но прежде — последняя ненапечатанная вещь — «Серый туман», повесть о Петрограде первых послереволюционных лет.
Голод, холод, разруха — «ненастоящая жизнь», от которой трое запуганных людей, ничего не смыслящих в том, что происходит, далеких от понимания революции, ее сущности, целей и идей, уходят в лес.
В повести, кроме этой, главной, линии, намечена и вторая — нескладная, незадачливая жизнь рефлектирующего интеллигента — студента Повалишина. Он тоже ничего не понимает и не принимает в революции, он вообще слаб и безволен и, в сущности, ко всему равнодушен, даже к изменам когда-то любимой красавицы жены.