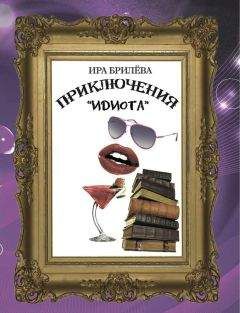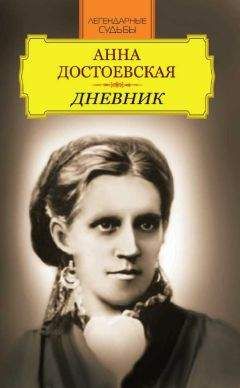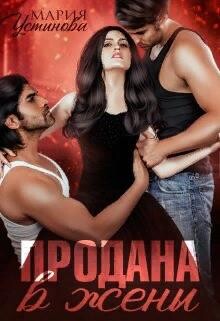Невероятная жизнь Фёдора Михайловича Достоевского. Всё ещё кровоточит - Нори Паоло
С первых шагов Достоевский пишет о вещах, о которых тяжело не только писать, но даже упоминать о них. Да что там упоминать – даже думать.
Например, о смерти детей.
Первый детский гроб появляется уже в дебютном романе «Бедные люди». В семье Горшковых, соседей Девушкина по квартире, умирает первенец, девятилетний мальчик. От чего – неизвестно, возможно, от скарлатины. Маленький гробик, «простенький, но довольно хорошенький». Шестилетняя сестра мальчика молча стоит, прислонившись к гробу, ее угощают конфетой, она берет, но не ест. Стоит «скучная, задумчивая».
«А не люблю я, маточка, Варенька, – пишет Девушкин, – когда ребенок задумывается; смотреть неприятно!»
Русский режиссер Лев Кулешов однажды провел эксперимент, ставший известным на весь мир. Хрестоматийный «эффект Кулешова» вошел в историю монтажа.
Режиссер снял четыре кадра, длившихся по несколько секунд: крупным планом лицо актера Ивана Мозжухина, смотрящего куда-то перед собой; тарелка супа, над которой вьется пар; ребенок, лежащий в гробу; девушка, томно смотрящая в камеру, полусидя на диване.
Монтируя кадры, Кулешов чередовал их таким образом, чтобы лицо актера появлялось после каждого из трех остальных кадров: тарелка супа – лицо Мозжухина, ребенок в гробу – лицо Мозжухина, девушка на диване – лицо Мозжухина.
В итоге выражение лица актера считывалось каждый раз по-разному: в первой паре кадров – как голодное, во второй – как безутешное, в третьей – как влюбленное. Хотя это был один и тот же крупный план лица. Эксперимент Кулешова показывает, что смысл, который мы придаем вещам, меняется в зависимости от того, что их окружает.
В этой связи вспоминается идея Моммзена, что бывают такие моменты, когда будущее отбрасывает тень на настоящее. Именно это мы и наблюдаем в случае с лицом Мозжухина: на него отбрасывает тень то, чему еще предстоит случиться (тень следующего кадра), и оно в некотором смысле несет на себе печать будущего.
Такое случалось и в жизни Достоевского: написанные им произведения отбрасывали тень на его судьбу.
То есть Достоевский, как и все мы, писал о том, что происходило с ним в прошлом; но случалось и так, что написанное им осуществлялось в будущем.
Сам еле сводя концы с концами, Девушкин не устает делать маленькие подарки бедной Вареньке – цветы в горшках, сладости; ради Вареньки он отказывается даже пить чай, иронизируя по этому поводу, хотя уже сильно задолжал, и, встречая на улице нищего, который просит Христа ради, вынужден молча проходить мимо. (В этой связи вспомнилось, как моя дочь, когда была маленькой, хотела, чтобы я подавал милостыню всем встречным нищим, а я этого не делал и чувствовал себя ужасно.)
Узнав, что и без того бедствующий Макар Девушкин дошел до полной нищеты, Варенька отдает ему те немногие деньги – какие-то жалкие гроши – которые у нее оставались. Эти два бедняка, ведущие убогую жизнь, напомнили мне один эпизод из мемуаров второй жены Достоевского Анны Григорьевны. Поселившись в Женеве в конце 1867 года, по вечерам, часов около семи, они с мужем выходили на прогулку и, чтобы Анна Григорьевна не уставала (она была беременна), часто останавливались перед ярко освещенными витринами роскошных магазинов: Фёдор Михайлович показывал жене драгоценности, которые подарил бы ей, если бы разбогател.
«Надо отдать справедливость: мой муж обладал художественным вкусом, и намечаемые им драгоценности были восхитительны», – пишет Анна Григорьевна.
Когда мы читаем в «Бедных людях» об умершем ребенке, уложенном в специально сделанный новый гроб, невольно приходит на память история первенца Достоевского, дочери Сони, родившейся в 1868 году и названной в честь главной героини «Преступления и наказания» Сони Мармеладовой, которая зарабатывала проституцией (смелый шаг со стороны четы Достоевских). Фёдор Михайлович писал тогда Майкову:
«Ребенку только что месяц, а совершенно даже мое выражение лица, полная моя физиономия, до морщин на лбу, лежит – точно роман сочиняет! Я уж не говорю об чертах. Лоб до странности даже похож на мой. Из этого, конечно, следовало бы, что она собой не так-то хороша (потому что я красавец только в глазах Анны Григорьевны – и серьезно, я Вам скажу!). Но Вы, сами художник, – пишет Достоевский, – отлично хорошо знаете, что можно совершенно походить и не на красивое лицо, а между тем быть самой очень милой».
Но первым всплывает в памяти даже не это, а то, что писала Анна Григорьевна об их женевской жизни в 1868 году:
«К моему большому счастью, Фёдор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было: „Что Соня? Здорова? Хорошо ли спала, кушала?“ Фёдор Михайлович целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею, причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнает его, и вот что он писал А. Н. Майкову от 18 мая 1868 года:
„Это маленькое, трехмесячное (создание), такое бедное, такое крошечное – для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил“.
Но недолго дано было нам наслаждаться нашим безоблачным счастьем, – продолжает жена Достоевского. – В первых числах мая стояла дивная погода, и мы, по настоятельному совету доктора, каждый день вывозили нашу дорогую крошку в Jardin des Anglais [17], где она и спала в своей колясочке два-три часа. В один несчастный день во время такой прогулки погода внезапно изменилась, началась биза (bise) [18], и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас же обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше. Несмотря на его уверения, Фёдор Михайлович не мог ничем заниматься и почти не отходил от ее колыбели. Оба мы были в страшной тревоге, и наши мрачные предчувствия оправдались: днем 12 мая (нашего стиля) наша дорогая Соня скончалась. Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мертвой нашу милую дочь. Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа: отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя пред остывавшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку, вместе заказывали все необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали. На Фёдора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудел за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plain Palais [19], где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а среди них был поставлен белый мраморный крест. Каждый день ходили мы с мужем на ее могилку, носили цветы и плакали».