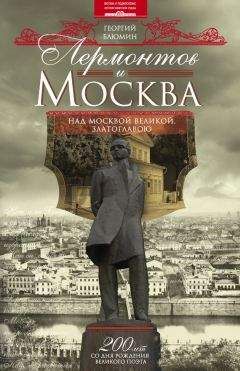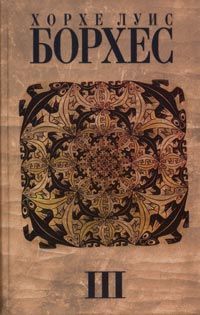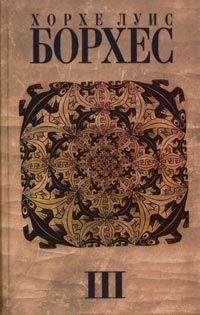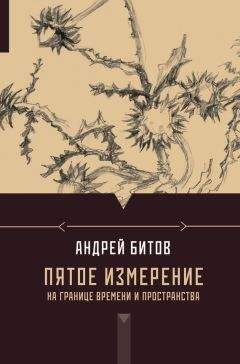Александр Волков - Опасная профессия
Почти вслед за Отто в Москву поехал Егор Яковлев. Зародов передал через него подробные инструкции Лацису, как вести себя в КПК, мол, он еще не очень опытный, вот так с ними говорить ни в коем случае нельзя, а вот так можно…
Вскоре и я поехал в отпуск в Москву, отдыхал в санатории «Пушкино». Отто приезжал ко мне туда. Он проверял на мне аргументы в споре со своими партийными обвинителями, когда мы катались на лодочке по «партийному» пруду. Для тех, кто не знает, все же скажу: Карпинского исключили из КПСС, Лацис получил «строгача с занесением» и, конечно же, был отлучен от прессы.
Лацис оценил мужество Зародова. Множество раз еще до той истории и после мы убеждались в глубочайшей порядочности Константина Ивановича. И мне очень досадно, когда слышу от некоторых: а вот мне он не помог, меня не напечатал и тому подобное. Один человек, когда я попросил его быть оппонентом на защите моей докторской (не столь уж великое одолжение), отказался выступить, объяснив это только тем, что вы, мол, с Зародовым меня в Прагу так и не позвали (на работу имелось в виду) и в журнале не печатали. Получается, дескать, «игра в одни ворота», — так он сам выразился. Я извинился, что побеспокоил, и не захотел рассказать, сколько раз Зародов предлагал его кандидатуру в ЦК КПСС и как всякий раз получал отказ.
Теперь вернусь к тому моменту, когда я сам собрался вернуться в Москву и получил столь резкий от ворот поворот, к тому эпизоду, с которого начал эту книгу.
Конечно же, я с нетерпением ждал возвращения в Прагу Константина Ивановича. Ничего, как он просил, не предпринимал. Две «бедны» с вещами так и стояли не разобранными, масса увязанных книг так и лежала горой. Мы начинали потихоньку раскладывать их по полкам, но делать это как-то не хотелось, пока не стало окончательно ясно, что же все-таки произошло, и что отъезд уж точно откладывается на неопределенное время. Думалось, быть может, удастся сразу ринуться в какое-нибудь другое место в Москве, на другую работу, но это так, для ослабления стресса, потому что в душе в возможность этого веры не было — знал же порядки в родной стране.
Когда Константин Иванович вернулся, он позвал меня к себе в первые же часы по прилете. Я уселся рядом с ним за большим длинным столом для совещаний — так он любил иногда разговаривать с сотрудниками, если беседа предстояла долгая — и он сразу же спросил:
— Ты вот мне скажи откровенно, есть у тебя на стороне ребенок? Только честно, как на духу…
Ожидал чего угодно, только не этого.
— Странный, — говорю, — вопрос, Константин Иванович. Чего это вы вдруг? Какое это имеет отношение ко всем событиям?
— Нет, ты вот так прямо мне и скажи — есть или нет?
— Ну, если уж вам так нужно, отвечу: нет, не было, да и не собираюсь…
— А вот там написано, что есть! Я еще удивился. Все другое, что про тебя сказано, я знаю, а вот этого не знал.
— Вы не знали потому, что этого нет, — говорю так, а сам размышляю: что за идиотский, в сущности, вопрос, какое он имеет отношение ко всему происходящему? А Зародов поясняет:
— Там так написано: имея двоих детей, связался с женщиной, у которой от него родился ребенок. Потом он бросил и ее.
— Выходит, Константин Иванович, что я сначала первых своих двоих детей бросил вместе с женой, а потом еще одного вместе с этой женщиной, так что ли?
Он смутился, понимая уже всю несуразность обвинения, потому что прекрасно знал и мою жену и детей, и то, что никуда я их не бросал. Ну, а я, естественно, хотел уж поставить точку над i:
— Вы же знаете, что «имея двоих детей», так их и имею, а они уже тоже имеют детей, внуков то бишь моих. С одной женщиной не расходился, так как же получилось, что еще и другую бросил? Уж написали бы просто, что имел, скажем, любовницу или еще как, но, видно, это слабовато показалось, мало ли кто любовницу имел! Сейчас прямо половину аппарата ЦК назову. А тут совсем иначе все выглядит, ужасно нехорошо: одних детей побросал, а потом других побросал… А главное все-таки, где это написано?
— Да я вот тоже удивился, — озадаченно говорит Зародов. — Об остальном-то я знал.
— А чего «знал», чему вы не удивились?
— Знаешь, Александр Иванович, я с тобой буду разговаривать откровенно при одном условии: ты ничего не станешь расследовать, никому ничего не расскажешь. Сам понимаешь, что сказано все это было не для тебя.
— А почему, собственно, не для меня?
— Ну, такое было условие. Ты знаешь, партбилет у меня один, я его лишаться не хочу, поэтому ты мне для начала дай слово, что никто ничего не узнает, и ты ничего не будешь предпринимать.
— Мне, — говорю, — не нравятся такие игры. Но, с другой стороны, понимаю, что у вас, видимо, нет выхода. Значит, и у меня его нет.
— Нет, — подтвердил он, — нет другого выхода.
— Тогда обещаю.
Сразу замечу: я это обещание выполнил. Ничего не предпринимал, не расследовал, хотя вся душа протестовала против такой анонимности. Да и почему, собственно, не сказать человеку ясно и просто, по каким причинам его не взяли на работу, кто и в чем его обвиняет? Впрочем, что спрашивать, если так долго права доносчика охранялись несравненно ревностнее прав любого другого гражданина? Да и до сих пор охраняются! Анонимность, таинственность, намеки на то, что где-то кто-то хранит высшую истину, даже и про тебя знает больше, чем ты сам — это кому-то выгодно, это атрибуты и инструменты любой авторитарной власти.
Уже только после смерти Зародова я поведал кое-что самым близким друзьям, и то не сразу и не полностью.
Рассказ Константина Ивановича сводился к следующему. После смотрин, которые мне устроили, Зародову было сообщено, что предложенный им кандидат подходит и уже оформляется. Я тогда, кстати, заходил к Зародову в больницу, мы там побеседовали обо всем на свете, а когда я уходил, он, смеясь, сказал:
— Ну, давай, пробивайся тут, укрепляйся, а потом, глядишь, и мне поможешь выбраться из Праги.
Шутка была не случайной. Дело в том, что сидел он в Праге с 1968 года. Приехал туда как раз накануне известных событий и «просидел» в общей сложности около четырнадцати лет. Как-то он позвал меня и прочитал строки из письма близкого ему человека, Александра Николаевича Яковлева, работавшего тогда в Канаде: «Костя! Знаешь, кто мы с тобой? Есть люди «невыездные», которых не выпускают за границу, а мы с тобой «невъездные».
А стал Зародов «невъездным» так: ему предложили должность главного редактора «Коммуниста». Документы о назначении прошли все инстанции, получили подписи всех членов Политбюро. Друзья уже звонили в Прагу, поздравляли, но Брежнев назначения не подписал. И никто не знал, почему. Сейчас можно предположить, что Генсек просто был болен, но это именно мое предположение, не больше. Тогда же тайна строго охранялась. Эта неизвестность мешала Зародову и дальше. Многие такое испытали: против тебя что-то предпринимают, за спиной у тебя что- то происходит, тебя куда-то, скажем, не пускают, каким-то образом дискриминируют, а ты не только не можешь ничего сделать, но и не имеешь права — как это было и в моем случае, и в случае с Зародовым — даже голос поднять, даже намекнуть на то, что нечто не в порядке, потому что знаешь: состроит кто-то удивленное лицо, мол, что вы, какая дискриминация, к вам все прекрасно относятся. А дальше тебе будет еще хуже. Никто не знал, почему не подписал назначение Брежнев, и потому никто не мог предложить Зародову другую должность, не мог «войти» в Политбюро с какими-то предложениями. Наверное, только Черненко мог, но вот он уже почему-то не хотел, а всякий другой, поменьше, послабее, боялся получить шишки: знаешь, мол, что не продвинули человека, значит есть на то основания, чего же лезешь! И Зародов все свои надежды связывал с Черненко, с которым когда-то работал в одном отделе. Они руководили параллельными секторами, общались, и Зародов верил, что настанет момент, когда Черненко ему поможет. Помог он ему только в одном: когда Зародов умер, Черненко «исхлопотал» ему место на Новодевичьем кладбище.