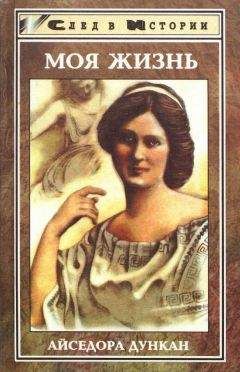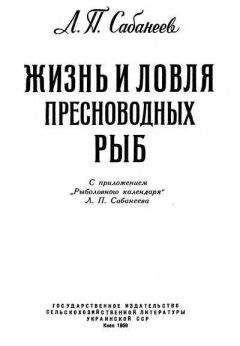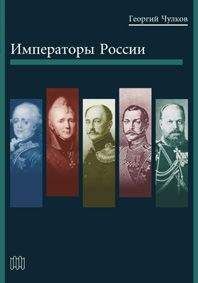Леонид Сабанеев - Воспоминание о России
Мы встретились уже в эмиграции в Ницце. Он был уже преклонных лет, но все такой же бодрый и деятельный и такой же оптимист. Одного из его сыновей, который учился в нашем реальном училище, я иногда встречаю: он стал чем-то вроде «странника»: ходит с котомкой по Франции и распространяет какие-то религиозные брошюры. Ушел целиком в богоискательство и… прекрасно играет на фортепиано сочинения Скрябина.
Да. странные люди водились на Руси… И тут нельзя даже утешиться обычным объяснением, что это «ам слав» [125], потому что семья Фидлеров – чистокровные немцы.
АЙСЕДОРА ДУНКАН В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Посещение Айседорой Дункан Советской России в начале двадцатых годов нашего века было одним из немногочисленных «красочных» эпизодов на серо-тусклом и, в сущности, трагическом фоне тогдашней московской жизни, голодной, холодной и недоуменной.
Я хорошо помню все перипетии этого «мирового» (как думала Айседора сама про это свое деяние) события, потому что в некоторой степени оказался лицом, «пострадавшим» от этого происшествия.
Дело было в том, что как раз в это время мне удалось в сотрудничестве с Н. А.
Гарбузовым, молодым инженером и музыкантом, организовать при Музонаркомпросе Государственный институт музыкальных наук (ГИМН – его сокращенное и подходящее к его музыкальному назначению наименование), преобразованный из бывшего «теоретического отдела» и долженствовавший объединить музыкально-теоретическую работу в РСФСР (тогда СССР еще не родился). Только что назначенный управляющим Музо Борис Красин чрезвычайно сочувствовал этой идее. Это был очень милый и симпатичный человек, музыкант очень слабый, но любивший музыкантов и артистов и их компанию, приятель всех «великих» артистов – и удобный тем, что он был брат Леонида Красина, друга и соратника Ленина (отчего его прозвище в Москве было «наркомбрат»), и потому имел связи и некоторое влияние в Кремле.
Он выхлопотал для ГИМНа помещение в просторном и даже роскошном особняке А. К.
Ушкова на Пречистенке [126]. В доме этого Ушкова сам Красин обитал и, желая сделать услугу Ушковым, которые решили покинуть Россию, обещал устроить так, чтобы их дом был устроен в «чистые руки» для какого-нибудь приличного учреждения.
Но недолго пришлось ГИМНу обитать в этом особняке. И именно приезд Дункан был тому причиной. Айседора (между прочим, отчего Айседора? Сама она себя и все иностранцы именовали ее Изадора) приехала совершенно неожиданно с огромными багажами и свитой «ближайших учениц» и уже сидела на вокзале, совершенно не ожидая, что в Москве в ту эпоху совершенно не было помещений: все было или населено, или занято под учреждения. Луначарский совершенно сбился с толку и решил отдать помещение ушковского дома для Айседоры. Я пытался как мог защитить наше «достижение», ездил ко всем возможным «властям предержащим», к Малиновской, к Марье Ильиничне Ульяновой, сестре Ленина, чтобы она подействовала на Ленина.
Марья Ильинична, женщина типично «нигилистической» наружности, очень скромная и, по-видимому, милый человек, поручение мое исполнила, но сказала, что брат ей ответил так: «Дункан мне совершенно не нужна, пусть Луначарский выпутывается как хочет – это была его фантазия: завлечь Дункан в Россию». Но тем не менее моему ГИМНу было дано правительством помещение, которое по странной игре судьбы оказалось той самой квартирой на Б. Дмитровке, где я провел почти все свое детство. В компенсацию же за «понесенные тревоги и замедления» мне был прислан почетный билет для посещения «Храма танца» Дункан в любое время дня (и ночи – возможно, но об этом не упоминалось).
Вследствие подобного стечения обстоятельств мне пришлось из дипломатических соображений присутствовать на торжественном вечере у Айседоры – открытии ее школы, в которой она хотела научить российский пролетариат ритмическим движениям для более успешного построения коммунистического строя во всем мире.
На этом «вечере-ночи» (окончился он утром) собралась в особняке Ушковых та странная мешанина людей, которая вообще тогда характеризовала все «артистические» собрания. Тут были, конечно, и артисты, и даже в значительном количестве, всех наименований и специальностей, были и некоторые «представители власти» – в данном случае, между прочим, очень скромные и второстепенные (по всей вероятности потому, что главные большевики вовсе не сочувствовали путешествию и явлению Айседоры), и еще значительное количество лиц таинственного, но вполне известного назначения, которые всегда бывали там, где оказывались иностранцы.
На этом памятном вечере и произошло знакомство Айседоры с Есениным – и я был сам свидетелем этого знакомства [127]. Роман был необычайно стремительный и краткий.
Айседора спросила:
«Кто этот молодой человек с таким развратным лицом?» – спросила не без аппетита, – на что мой друг С. А. Поляков, издатель всех «символистов», немедленно ответил:
«Я сейчас вас познакомлю». И предание этой ночи свидетельствует, что в эту же ночь они стали уже супругами.
Айседора (или Изадора) была невероятно хаотическим созданием, как физически, так и умственно и психологически. Я нисколько не сомневаюсь в том, что она действительно верила в свою миссию и в построение коммунизма посредством ее танцев – голова у нее была путаная – и, видимо, даже склонна была думать, что танцы будут именно одним из наиболее мощных слагающих построения коммунизма.
Что касается до «молниеносной любви», наподобие Тристана и Изольды, вспыхнувшей между двадцатилетним мальчиком, полуобразованным и уже алкоголиком, и пожилой уже женщиной, которая была «по площади» больше его раза в три, то я совершенно уверен, что это была любовь однобокая – только с ее стороны. Есенин же пошел на всю эту авантюру из озорства или спьяну, как он делал почти все свои поступки в жизни. Его известный стих:
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума есть не более как опыт поэтического самооправдания и, может быть, в меньшей степени – опыт запоздалого комплимента. Их «совместная» жизнь была некрасива, тяжка и груба. Он ее бил: уже позднее, когда я увидал Айседору в Москве, она мне сказала на своем самобытном русском языке (она любила говорить по-русски и говорила очень плохо, но смело, как и все, что делала)… Она мне сказала: «Как он меня рюгаль, как колотиль!.. он меня называль старий кобыль!» Это было уже потом, на вечере у художника Якулова, уже перед ликвидацией ее «коммунистическо-хореографичес-кой» авантюры [128].
Есенин не только с ней грубо обращался – как-то утрированно-грубо, но он над ней издевался, учил ее неприличным русским словам, выдавая их за приличные, так что получались совершенно дикие положения. Во время этого второго (и последнего) моего с ней свидания я увидел, что этот запоздалый роман на нее произвел глубокое и очень тяжелое впечатление: это было уже началом ее окончательного увядания.