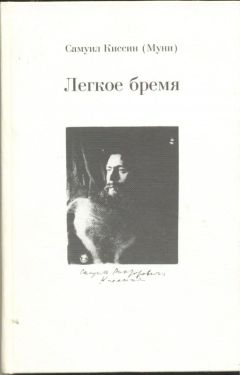Самуил Киссин - Легкое бремя
Целую тебя. Привет Ел<ене> Ник<олаевне>.
Прости мой стиль: поневоле станешь провинциален и сентиментален. Пиши, Бога ради.
Надо сказать, что Евгений Иванович Боричевский, действительно, заботился о Муни и его семье. Дети их: Ростик и Лия были погодками; Боричевский — крестный отец Лии — приглашал к себе Лидию Яковлевну с дочерью, а для Муни собирал посылки, обстоятельно обдумывая, что из новинок может его заинтересовать. В письмах он рассказывал о литературной и театральной жизни Москвы: о выставках, вечерах, книжных новинках. Он размышлял о войне, как виделась она из кабинета ученого, филолога, о природе зла, его особенностях в XVIII, XIX, XX веках.
Поводом к разговору, в частности, послужила та самая «желтая французская книга», о которой Муни писал другу — «Опасные связи» Шарля де Лакло. В эти дни Боричевский жил в тревоге и ожидании катастрофы, которые были свойственны Муни, но — дома, среди близких, с книгой на коленях.
Читаю книги, и последние дни сижу над единственным романом француза Лакло «Опасные связи», самой бездумной и в то же время одной из самых умных книг, какие я когда-нибудь читал. Люди, изображенные Лакло — «герои зла», взятые из живой действительности 18-го века. Их черты — положительность, активность, тонкий холодный расчет, основанный на математически точном знании человеческой природы, и притом ее доброй стороны даже лучше, чем злой, ибо она, меньше скрываясь, более доступна изучению. Их позитивизм резко отличает их от «демонизма» 19 века, который всегда оказывался идеализацией зла, или прихотью ищущего разнообразия созерцателя, или нравственным самоистязанием, свидетельствующим о глубине и совестливости добра. Здесь, напротив, простая зоркость и холодная проницательность, свойственная французу 18 века, доведенная до совершенного бездумия, носящие в себе большую силу разрушения, чем все шатания 19 века. Совершая случайно, ради личных целей, добрые дела, герои Лакло находят, правда, в этом удовольствие, но… делают отсюда вывод, что те, кого называют добродетельными, не имеют столько заслуг, как обыкновенно думают. Страсти они заменили пороками, которые, будучи более надуманны и, следовательно, менее естественны, оставляют человеку большую свободу. И, может быть, именно потому, что книга эта такая умная и ясная, в ней больше чувствуется какая-то колоссальная ошибка, которая лежит в основе других книг, не выступая так резко.
Несмотря на то, что я живу здесь в тишине и отдалении от всего, что делается в мире, — острое чувство опасного веяния каких-то неведомых сил, отчего относительная безопасность человеческой жизни понизилась до степени животного существования. Это коснулось как вершин общественной лестницы в лице Жореса, потом румынского, теперь греческого короля и сделало жизнь и здоровье людей чем-то вроде пылинки, носимой смеющимся над ними ветром. На днях прочитал в газетах сообщение о смерти женщины от укуса пчелы, укусившей ее в сонную артерию. Вот, кажется, символ нашего, ставшего таким непрочным, существования. Прости, что пишу тебе такое письмо, но, думаю, оно не прозвучит диссонансом.
Несмотря на все — будем верить, бороться, ждать, любить. Пиши и не забывай. Твой Евгений
В другом письме, написанном накануне нового, 1916 года, он подводит некоторые итоги прошедших военных лет:
Я не оптимист. Уже теперь ясно, что возврат к прежней жизни, к счастливой жизни (раньше мы бы этого не сказали), даст нам радостное и глубокое чувство блага жизни, которое мы раньше недостаточно ценили. Но вернемся мы совершенными банкротами. Погиб социализм, бессильный и в идейном и в фактическом смысле, допустивший развитие… капиталистической войны. Погиб и индивидуализм: подпольный человек после своего; «пусть весь мир провалится, а мне бы лишь чай был», отправился вместе с организованным пролетарием на фронт, став средством для цели, ему неизвестной. Значит, есть какие-то силы — благословенные или проклятые, — которых мы не знали. Что мы станем думать после войны, — вот что в конце концов самое интересное в ожидающем нас будущем.
И, продолжая мысль:
Раньше, как и ты, я не чувствовал значительности совершающегося, но теперь мне кажется, что все это, ничтожное по событиям, ибо «сдельный мир явленья свои не изменит», — вскрывает природу человека с таким проникновением и такой глубиной, с какой, она, быть может, никогда еще не раскрывалась. Надо хоть немного видеть и понимать, но смысл настолько нов (хотя бы в степени и оттенках известного ранее) и потрясающ, что сейчас, «при первом чтении», мы еще почти ничего не понимаем. Иногда я себе представляю историческую хронику в стиле того самого Лакло, который летом показался тебе столь диссонирующим со всем окружающим нас.
Но и этот умный, глубокий человек, пожалуй, больше всех в годы войны помогавший Муни, не понимал, что происходит с ним, и в том же письме писал:
Советую тебе не отказываться от орденов, так как после войны легко будет благодаря им найти занятие. Ордена будут после войны своего официальной, даже государственной рекомендацией, пренебрегать которой не следует.
Письмо заканчивалось словами:
А лучше всего бери отпуск и приезжай. Теперь все берут отпуск, так что я даже не понимаю, кто же там у вас остается.
Но потребность услышать близкий человеческий голос так велика, что Муни готов мириться со многим — лишь бы он звучал. Снова и снова просил он Ходасевича: пиши! И спрашивал: почему не пишешь? — в письмах к жене говорил обидные и обиженные слова о Владе, отказывал ему в дружбе, отказывался от всего, что соединяло их, — а утром на клочках бумаги лиловым карандашом крупными буквами писал Ходасевичу.
Он так рвался в Москву — на несколько дней, на неделю! — что даже к Брюсову обращался за помощью, не находя у него, впрочем, ни сочувствия, ни отклика. В. Я. Брюсов жил в Варшаве свободно и деятельно: продолжал литературную работу (переводил «Энеиду», писал стихи, очерки), свел знакомство с польскими писателями, русскими журналистами, и если на что и жаловался, то разве на суету да скверные обеды:
«Муни не видел давно (письмо ему отдано), — писал Брюсов жене 24 ноября 1914 г., — зато видел много (излишне) П. Пильского — есть такой. Обедал недавно с Немировичем-Данченко. Изумительно бодрый старик: ему за 80! Видаю Федорова (“дождь до могилы моей”), Муйжеля и Ладыженского — все корреспонденты. Пишу это в кафе. Ем скверный обед (везде скверные из-за отсутствия вина, т. е. торговли оным). А на ужин, как всегда у меня: четверть ф. икры зернистой (50 к.) и бутылка сливок (10 к.) — лучший ужин»[245].