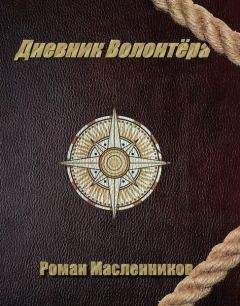Евгений Воробьев - Земля, до восстребования
Все последние дни он очень нуждался в советах Старика, но тот далеко-далеко, в Испании...
"В том-то и особенность нашей профессии - мы чаще, чем кто-нибудь, остаемся в полном одиночестве, такая у нас судьба... Не с кем посоветоваться, все нужно решать самому. Притом решать молниеносно, иногда в те доли секунды, какие предоставляет тебе противник. А следователь не должен заметить, что я пришел к решению не сразу, успел перебрать в уме несколько вариантов решения и выбрал один из них".
Опытный разведчик привык самостоятельно принимать решения, в отличие от иных работников аппарата, которые слишком привыкли чувствовать себя подчиненными...
Хорошо, что у Италии натянутые отношения с Австрией.
Может, это затруднит проверку всех его паспортных данных контрразведкой? Потому что ответ, который может поступить из общины Галабрунн или из Линца на запрос ОВРА, ничего хорошего ему не сулит. Паспорт в полном порядке, у него "железный сапог", как принято говорить у разведчиков, но ходить в этих сапогах по Линцу нельзя...
Вагонное окно наполовину открыто. Над головой, на верхней сетке, лежит маленький саквояж Этьена.
Наручники сняты. Рыжий карабинер дремлет.
Этьен инстинктивно скользнул взглядом по кобуре с пистолетом и подсумку, висящим на белом лакированном ремне.
"Ну, предположим, сбегу на ближайшей станции. А куда денусь? Где скроюсь от черных рубашек? Беспаспортный бродяга, без крыши, сразу поймают..."
В купе вошел капрал, увидел, что рыжий карабинер спит, а арестант сидит напротив не смыкая глаз.
Капрал, тормоша рыжего, спросил без тени испуга:
- Добрый христианин, как тебе спится?
- Пусть немного поспит, - сказал австриец вполголоса. - Я не доставлю вам служебных неприятностей.
48
Тюремщик положил руку на опущенное плечо.
- Зачем вы нам мешаете? - взорвался Паскуале. - Разве срок свидания уже кончился?
- Не кончился. Но синьорина ушла...
Тюремщик предложил Паскуале пройти в камеру, а тот по-прежнему стоял и держался за решетку - пальцы даже побелели - и с кривой усмешкой, не очень осмысленно повторял:
- Ушла, синьорина ушла...
Тюремщик подал кружку с водой. Наконец-то Паскуале оторвал руки от решетки.
Зубы застучали о кружку, он выпил всю воду, но во рту так же сухо.
Он заплакал, гулко, на всю комнату, рассмеялся, а когда выходил из комнаты свиданий, сильно ударился плечом о косяк двери-решетки...
Паскуале написал Джаннине письмо, но ответа не было.
Он решил, что письмо затерялось в тюремной канцелярии, поскандалил с надзирателем и потребовал, чтобы к нему в камеру явился начальник охраны капо гвардиа.
Тот заверил, что тюремная администрация в данном случае ни при чем. Подследственному Эспозито в виде исключения разрешена переписка до окончания следствия.
Капо гвардиа сообщил, что деньги Паскуале получит завтра утром. А что касается письма, то когда дочь в тюремной канцелярии оставляла деньги, она сказала: пусть синьор Эспозито писем от нее не ждет.
Паскуале отправил второе письмо, подробно написал о том, что именно с ним произошло, и в конце вопрошал: "Почему ты мне не отвечаешь? Ты же слышишь мои рыданья?"
Он ждал, нетерпеливо ждал, а ответа все не было.
Тогда он понял, что Джаннина никогда его не простит, отреклась от него.
А на суде станет ясно, что он предатель. На него станут оборачиваться и смотреть с жалостью, с ненавистью, и никто - с сочувствием, даже Джаннина. Все будут презирать его, в том числе и Коротышка, который сделал его предателем.
Он попросил молитвенник, тюремщик принес.
Паскуале нашел "Молитву о доброй смерти" и выучил наизусть.
"О распятый мой Иисусе, милостиво прими молитву мою, которую тебе уже теперь воссылаю вместо часа смерти, когда оставят меня все мои чувства. О сладчайший Иисусе, когда угасающие и закрывающиеся очи мои не будут в состоянии взирать на тебя, помяни любовный взор мой, которым ныне смотрю на тебя, и помилуй меня! Когда засыхающие уста мои уже не смогут целовать пречистые твои язвы, вспомни лобызания, которые ныне на них оставляю, и помилуй меня! Когда холодеющие руки мои уже не смогут держать распятие твое, вспомни, с какой любовью ныне его обнимаю, и помилуй меня! Когда, наконец, коснеющий язык мой не сможет промолвить ни слова, вспомни, что и тогда, молча, взываю - помилуй меня! Иисусе, Мария, Иосиф, вам передаю сердце и душу мою! Иисусе, Мария, Иосиф, будьте при мне в последний час жизни моей! Иисусе, Мария, Иосиф, да испущу в вашем присутствии дух мой!"
Тайком от надзирателя он начал распускать присланные ему носки домашней вязки. Нитки были грубой шерсти, крепкие.
Паскуале сматывал их в клубочек и думал:
"Эти самые нитки разматывались при вязании в быстрых руках матери. А до того мать сама их пряла. А до того сама сучила шерсть. И овец тоже стригла сама. А еще раньше, мать, страдая от одышки, карабкалась по каменным кручам, с трудом поспешая за овцами".
Жаль, очень жаль, что носки не куплены в каком-нибудь галантерейном магазине. Ему было бы легче, если бы их не связала мать.
Вот он остался в одном носке, а еще через день обувал оба башмака на босые ноги. Зябко зимой в башмаках без носков!
"Так и ревматизм недолго нажить, - встревожился он и тут же горько вздохнул: - Пожалуй, не поспеет ко мне ревматизм..."
Вечером следующего дня, когда в тюремном коридоре зажегся тусклый фонарь, надзиратель вошел в камеру к Паскуале, принес кувшин с водой.
Заключенный стоял под оконной решеткой, стоял, на цыпочках, прислонившись к стене, с бурым, набрякшим лицом, а голова неестественно склонилась на плечо. В сумерках надзиратель не сразу увидел серый крученый шнурок, который тянулся от решетки к шее.
С криком: "Нож, скорее нож!" - надзиратель выбежал в коридор, тут же вернулся в камеру, перерезал шнурок, и тело Паскуале безжизненно осело. Надзиратель с трудом поднял его, уложил на койку, - не думал, что щуплый человек окажется таким тяжелым!
Прибежали тюремный врач, начальник тюрьмы, но все попытки вернуть к жизни подследственного Эспозито были безуспешны. И тогда позвали священника.
Предсмертная записка Паскуале:
"Не прошу у тебя прощения. Знаю, прощения не заслуживаю.
Стыдно дожить до седых волос и не научиться держать язык за зубами.
Я только прошу помолиться за меня. И не в Дуомо, а в церкви святого Августина. Помолись за меня, дочь моя Джаннина, когда тень моя пройдет перед твоими глазами в Девятый день и в день Сороковой!
Знаю, что самоубийство является виной, караемой создателем, этот судия наказывает и после смерти. Наложить на себя руки - большой грех, а больше всего я виноват перед твоей матерью, перед тобою, Джаннина, и перед твоим патроном.