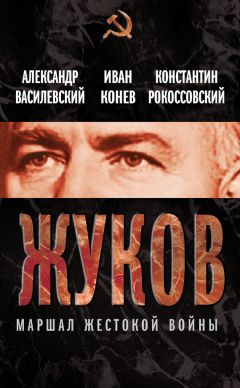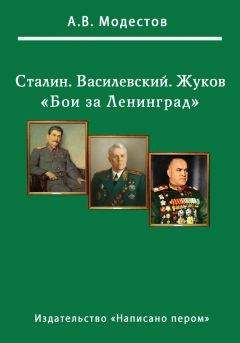Ярослав Ивашкевич - Шопен
Итак, не нужны ему Дельфина, госпожа Калержи, Марселина, их необыкновенная красота, изысканность и незаурядные таланты. То и дело он возвращается мысленно к «общим знакомым», к той смуглой, невысокой, слегка располневшей женщине, которую в то время знало и преследовало как революционерку всё Берри.
В мае наступает тяжелый кризис: композитор предает огню часть рукописей, относительно других недвусмысленно выражает волю, чтобы они не были напечатаны. Повторяет это и перед самой смертью, воля эта не была выполнена, к величайшему возмущению княгини Марселины, Гжималы и Августа Лео. Посмертное издание рукописей Шопена было, несмотря на это, делом правильным. Другой вопрос — как поступил с этими произведениями Фонтана, который их приглаживал, давал им названия (Fantasie Impromptu), группировал совершенно произвольно в циклы, которые пора уже было разъединить в новых изданиях, и снабжал их фантастическими номерами опусов, создавая впечатление, что пер вые, почти детские сочинения являются последними творениями композитора.
Несомненно, к той весне, к периоду, когда он еще находится на Орлеанской площади и «умел быть весел», относится последняя творческая попытка композитора, печальная Мазурка до мажор, которую верный Франшоме переписал с неразборчивого черновика и которая нас трогает и радует; она тревожна и даже более, чем другие произведения Шопена последнего периода, переходит из одной тональности в другую, не может «совладать с собой», как и сам больной композитор.
Произведение это было завершением длинного ряда мазурок, которые Шопен создавал всю свою недолгую жизнь — с самой ранней молодости до последних дней. В мазурках сосредоточились и конденсировались с наибольшей отчетливостью и силой те элементы народной музыки, которые композитор вывез с родины. Все то, что он сумел создать из этих элементов и как сумел их одухотворить, озарить своей лучезарной улыбкой, расцветить своей огромной музыкальной эрудицией и украсить своей скромностью. Пожалуй, о мазурках думал Норвид, когда писал в своем некрологе:
«Умел он труднейшие задачи искусства решать с таинственной легкостью, ибо умел собирать цветы полевые, не отряхнув с них ни росы, ни легчайшего пуха. И умел их в звезды, в метеоры и, можно сказать в кометы, всей Европе светящие идеалом искусства, лучезарно преобразить.
Благодаря ему слезы простонародья польского, по полям рассеянные, собрались в диадеме человечества бриллиантом совершенства с чудесно гармоничными гранями.
Это самое наивысшее, что может совершить мастер, и это свершил Фридерик Шопен».
Даже если бы нас раздражал патетический стиль Норвида, мы невольно восхищались бы той меткостью, с которой этот молодой человек сумел оценить значение искусства Шопена в целом как искусства национального. В книге Листа, которую я слегка защищаю в моей работе, есть прекрасное место, касающееся мазурок: «Шопен сумел извлечь ту поэтическую неизвестную ноту, которая едва обозначена в оригинальных темах подлинно народных мазурок. Он сохранил их ритм, он облагородил их мелодию, увеличил пропорции, вставил в них новые гармонические полутени, столь же новые, как темы, которым они служат фоном, чтобы отразить в этих куртинах, которые он любил нам обычно называть произведениями станковой живописи, бесчисленные чувства, которые волнуют сердца во время танцев, особенно в те долгие перерывы, когда танцору по праву принадлежит место подле партнерши».
Итак, Лист видит в мазурках Шопена какое-то подобие цикла рисунков, напоминающих по манере Норблена[103] и отображающих всевозможные типы простых людей Польши. Но значение мазурок шире и глубже. Они идут гораздо дальше, в самую сущность народности: они эманация страдания и радости, эхо вечной боли прикованного к земле крестьянина. Они насыщены содержанием современной Шопену городской жизни, в них чрезвычайно отчетливо слышатся отголоски того, «как поют на родине».
Все, что вынес Шопен с родины, отзвуки праздника урожая в Шафарнии и гудение однострунного контрабаса, слова веселые, слова грустные — все сплелось в мазурках. «Кохановский в «Ночи под Ивана Купала» впервые народу поэзию обнаружил — Шопен сделал в музыке то же самое».
Это «обнаружение поэзии народу» происходило в процессе эстетического осмысления. На это положил Шопен все богатство своих душевных сил, призвал на помощь самые утонченные средства своего творческого арсенала. Из последних мазурок, сочиненных в конце жизни, композитор создает поэмы, ничем (пожалуй, только размерами) не уступающие Четвертой балладе, Баркароле, Полонезу-фантазии, Мазурке до-диез минор, опус 50, № 3 c-moll (op. 56 nr 3) — a-moll (op. 59 nr 1) — fis-moll (op. 59 nr 3) — с великолепной, гордо звучащей кодой, в которой минорная мазурка преображается в торжественный полонез.
Это великие, хоть и не много тактов насчитывающие шедевры, а принадлежат к наиболее замечательным произведениям композитора. «…Я никогда не обманывался, — писал о мазурках Шопена Станислав Монюшко, — скромным названием мазурки, данным глубокой по мысли поэме, чудодейственно скомпонованной из нескольких музыкальных танцев».
Поэтому нет ничего удивительного в том, что, прощаясь с творчеством, закрывая книгу своих творений, он, точно застежкой, скрепляет ее мазуркой. Ибо, с одной стороны, Шопен, подобно всем чахоточным, строил планы на ближайшее и далекое будущее, обставлял квартиру, собирался в далекие путешествия, с другой стороны, отдавал себе отчет в том, что положение его безнадежно и творческая энергия полностью иссякла. «Моя публичная деятельность закончена», — сказал он уже в апреле 1848 года, прощаясь со Станиславом Козьмяном[104] Поэтому надо думать, что «Мазурка фа минор» была создана в горькую минуту расставания с огромным, созданным им самим миром, который теперь ускользал от него, становился как бы самостоятельным и недосягаемым.
Я полагаю, что состояние Шопена в последний год жизни сродни тому, что испытывал Шимановский в те дни, которых я был свидетелем, — когда болезнь, оставляя нетронутыми фантазию и остроту восприятия, полностью парализовала способность творить. Несмотря на усилия и муки, не приходила тогда в голову ни одна творческая мысль. Несомненно, такое же бесплодие и бессилие художника — столь заметные у Шимановского летом 1936 года, когда он почти целыми днями лежал в постели, живя у своей сестры в Варшаве, — и порождали ту страшную, преследовавшую Шопена тоску, о которой он говорил Эжену Делакруа в их вечерних беседах.