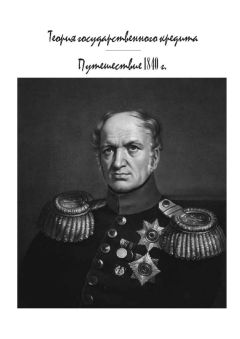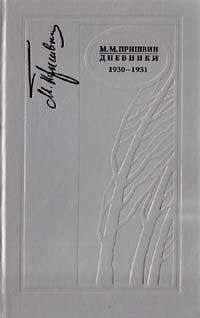Михаил Пришвин - Дневники 1920-1922
22 Июня. Был агроном Андреев, подтвердил мои наблюдения о расселении крестьян за спиной власти, говорил, что это все российское явление и что это должно быть скоро легализовано, потому что единственный выход. Несколько раз я слышал от крестьян, что они готовы отдавать много государству, лишь бы дали им право собственности, причем тон этих слов выражал готовность работать до самозабвения и тем отделаться от ненавистной политики. Так теперь за спиною коммуны по всей русской земле над каждым мельчайшим куском ее завязывается узел личного обладания ею в поте лица и так создаются те крепкие земле люди, которых хотел насадить Столыпин.
Любопытно еще наблюдать, как легко расстаются крестьяне со всеми заветами прошлого, если это только требует хозяйство, причина этому материальная скудость, вечная угроза голода. — Откуда же берутся «принципы»? — От удобрения! «В ночное время — в бразды святое сеять семя нисходят ангелы с небес». «Ангелы» — это существа личные, личность может независимо от голода нести святое семя, но общество, народ, государство несомненно живут только в пределах железного закона двух глаголов — есть и съесть. А личность выходит тонким стеблем из удобренной земли, цветок свободы.
Завтра еду в город. Дела: Виноградскому о школе. Керосин у Сем. Демьян. Щенок у Афанасьева и чучела. Политпросвет для разрешения книг. Центр. библиотека. Комтруд: о плотнике. Библиотека музея. Мыло и табак в потреб. Комиссарово дело. Зубы. Учит. — свояченица.
Vivere momento[13].
Тов. Корнюшин, Михалкин с Шарапина, Иван Иваныч, участник с Вязмичей, крючок или хранцуз (что задирает всех, а Михаил, кот. все примиряет), какой-то Дмитрий Иванович.
Ив. Ив.:
— Дайте газету покурить. — Взяв газету: — Блаженны милостивые{111}.
Корн.:
— И в карман! вот церковь! все учреждения под отчетом, только церковь не учитывают.
Ив. Ив.:
— Церковь отделена, потому что церковь наша и вам не подлежит.
— На что же тогда отделение от государства?
— Церковь наша, мы ее и учтем: она не подлежит.
— Далеко заглянул! вот у нас полено с печи упало, баба ревет, полено могло бы ребенка убить! а у вас и ребенка нет и не будет: стары.
Против коммуны: сын с отцом не могут жить. А когда скажешь о настоящей коммуне, то говорят, что это нужно — детей воспитать, чтобы дети не видели, не знали нашей жизни.
Михалкин признает две «вещи» в свободе: одна, что можно выходить на участки, и другая — разводиться с женой.
Словом, время стало новое, все поняли, что разом через узкие ворота в Царство Божие не войдешь, а нужно идти поодиночке.
Решение земельного вопроса: собственности не надо, собственность моя одна: яма на Едраши, а земля, пока я работаю, моя.
— Земля государственная!
— А я чей? я тоже государственный и земля моя, бросим работать землю, и переходит другому.
Конторщик положил на счетах мой паек:
— 36 ф. + 2 ф. на жену + 10 ф. на детей = 1 п. 30 ф., хорошо?
— Очень хорошо!
Мужик засмеялся: хорошо ли так, этакому человеку положили пуд хлеба, и он доволен!
Как ни грозит нам рок суровый,
Но снова вспаханы поля
И всходы вновь дает земля.
Как ни грозит нам рок суровый,
Но всюду знаки жизни новой
И взлет свободный без руля.
Как ни грозит нам рок суровый,
Но снова вспаханы поля.
26 Июня. Каждодневные дожди. Рожь налила, местами желтеет. Овес колосится и гречиха цветет.
С четверга был в городе. По пути видел, как целые деревни исчезают на участках. «Губернское запрещение». — «Губернское? тьфу! — если бы из центра!» Огромное значение этого факта. Разговаривали о схоластике сов. вл-и и чернобожии. Подобрать черты: напр., запрещение танцев, вычисления о безлошадных (сколько ангелов на булавоч. головке). Воспоминания: о докторе в Берлине и «Сикс. Мадонне».
На каком гвозде все это держится? — Чем черт не шутит, когда Бог спит. — Князя Оболенского разводишь — Обломанство.
27 Июня. Раннее утро. Солнце изнутри тучи. Теплый слепой дождь. Зяблик поет — только зяблик. Кукушки больше не слышно. День на убыль. Зелень на березах сереет.
День пошел на убыль. Липа цветет. Начинается вторая половина года.
Симфония зяблика в золотой дождик. Гад ползет и сверлит душу такими мыслями: «С февраля не получаю мыла, а все Уткина! вот поеду в Смоленск, упеку эту Уткину. Подам заявление…», подробно сочиняется заявление и жалоба, что меня не ввели в план снабжения.
Часто я и прежде ловил мысли этого гада, когда слышал хорошую музыку. Может быть, потому и гад теперь, что душа слушает музыку.
«Все тяжелое мира вещественного и все злое мира нравственного». (Письма об изучении природы. Герцен.)
«Сильная натура умеет выпутаться из затруднительных обстоятельств, умеет похоронить милое себе и, оставаясь верною ему, идти на новое действование и на новые труды; а слабые натуры теряются в своем плаче об утрате, хотят невозможного, хотят прошедшего, не умеют найтись в действительности и, как этрурийские жрецы, поют одни похоронные песни, не имея силы разглядеть новой жизни и брачных гимнов ее». (Письма об из. природы. Герцен.)
«Света не было бы, если б не было тьмы, или, если б он и был, то, беспрепятственно рассеиваясь, что освещал бы он? Но свет сам собою ставит тьму, тоска безразличности стремится к различению; на этом основана вечная потребность быть чем-нибудь; в этой потребности раздвоения проявляется Я, то есть субъективность природы». (Яков Бёме.)
«То, что было страданием во тьме, расцветает наслаждением в свете; все, что было страхом, ужасом, трепетом, станет криком радости, звоном и пением… Зло — необходимый момент в жизни и необходимо-переходимый… без зла все было бы так же бесцветно, как бесцветен был бы человек, лишенный страсти; страсть, становясь самобытною, — зло, но она же инстинкт энергии, огненный двигатель… Зло враг самого себя, начало беспокойства, беспрерывно стремящееся к успокоению, то есть к снятию самого себя…»
«Положительные науки имеют свои маленькие привиденьица: это силы, отвлеченные от действий, свойства, принятые за самый предмет, и вообще разные кумиры, сотворенные из всякого понятия, которое еще не понято: exempli gratia[14] — жизненная сила, эфир, теплотвор, электрическая материя и проч.». (Пис. об изуч. прир.)
Последние русские символисты, даже те, которые брали материалы из русской этнографии и археологии (Ремизов), лишились восприятия действительной жизни и страшно мучились этим (В. Иванов, Ремизов). Непосредственное чувство жизни своего (страстно любимого) народа совершенно их покинуло. И всегда символисты меня этим раздражали, и был я с ними потому, что натуралисты-народники были мне еще дальше. Мне всегда казалось, что для художественного творчества нужно, во-первых, заблудиться в себе до того, чтобы, вдруг нечаянно выглянув из себя, увидеть нечто вне себя и, временно поверив этому внешнему миру, отдаться ему, и потом, во-вторых, путем художественной работы передать другим, рассказать, как сон. Итак, в основе должна быть находка, предполагающая искание с верой в существование действительной жизни (реализм). Основание находки в вере своей, что это не я. Так что «блуждание» есть как бы процесс бессознательного творчества, и сила находки заключается в бессознательности: куда-то, зачем-то влечет… я называю силой — уверенность в существовании находки; сила ее бывает так велика, что довольно продолжительное время можно без вреда для нее осознавать, вычитывать о ней книги, выписывать находящиеся выдержки, изображать; но можно и переосмыслить до того, что находка раздвоится: останется на одной стороне остов (т. е. вещь, ничего особенного из себя не представляющая и всеми видимая, обыкновенная), а на другой свое представление о ней, т. е., как это мне показалось, в таком случае пропадает творческий жар, который кажется теперь наивным пережитым состоянием. Так некоторые и всю свою жизнь засмысливают и остаются ни с чем. И вообще процесс творчества совершенно подобен жизненному процессу в его напряжении, в «жажде жить» и «ловить мгновения».