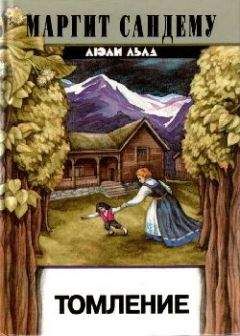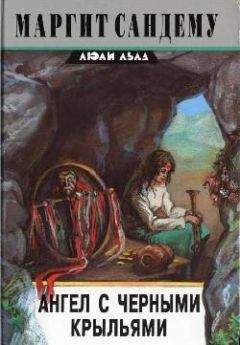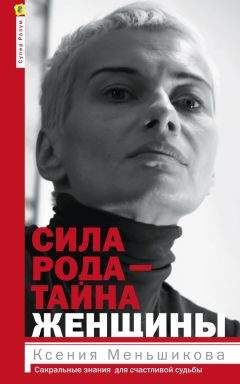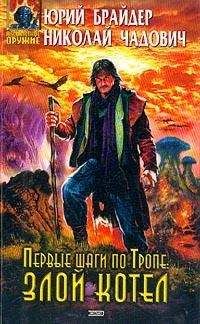Джованни Джерманетто - Записки цирюльника
Он остановился.
— Знаем. И поборемся!
Он все же не арестовал меня. Тогда полиция держалась еще с известной осторожностью по отношению к тем из нас, кто занимал руководящие посты в партии. Но с рядовыми ее членами она давно уже не стеснялась.
Глава XXXIX
Покушение на Муссолини и разгул реакции. Смерть Серрати
7 апреля 1926 г. ирландка мисс Гибсон[104] выстрелила в Муссолини. Пуля чуть задела кончик носа «дуче». Гибсон была схвачена на месте преступления. Весь гнев и ярость фашистов обрушились на головы коммунистов: последовал разгром наших учреждений, бешеный террор.
Затем был издан закон об обществах, согласно которому в управлении полиции должны находиться списки членов всех обществ и объединений. По этому поводу меня вызвали в управление полиции.
— Вы должны дать список миланской федерации вашей партии, — сообщили мне.
— Обратитесь к секретарю федерации.
— Кто там секретарем?
(Секретарями федерации по постановлению партии выбирались всегда депутаты, как лица, пользующиеся так называемой неприкосновенностью и аресту не подлежащие).
— Депутат Бендини, — сообщил я.
— Вечно у вас депутаты! — досадливо заметил комиссар. — Погодите, кончится и эта масленица с депутатами!
«Арестую, когда захочу» и «масленица» были любимыми выражениями достойного командора.
В это самое время мы потеряли Серрати. Он пал на посту, направляясь в горы на одно из заседаний ЦК[105].
В тот день мы вышли вместе. Он радовался прогулке в горы: Серрати был прекрасным ходоком.
Часть дороги мы проделали вместе, а потом разделились, чтобы снова встретиться в условленном месте… Через несколько часов я увидел его бездыханным на крутой горной тропе, по которой он поднимался. Сердце, так много перенесшее за годы тяжелой революционной работы, не выдержало.
Вся миланская полиция была мобилизована по случаю его смерти. Буржуазия боялась его даже мертвого. Опасались демонстраций. Тело Серрати было перевезено в Милан ночью и помещено в одной из комнат подземелий миланского крематория. Известие о его смерти произвело сильное впечатление во всей Италии. С самого раннего утра к его гробу стали стекаться желавшие проститься с ним товарищи: рабочие, служащие, женщины, солдаты. Приносили цветы, расписывались в тетради, специально заготовленной. Вскоре гроб был весь покрыт цветами. Я с утра находился при гробе. Явился наряд полиции во главе с комиссаром.
— Вы кто такой? — взволнованно обратился он ко мне. — Убрать цветы сейчас же! Где подписи?
Я отрекомендовался и подал ему тетрадь, из которой предварительно вырвал все исписанные листы. Комиссар открыл тетрадь: все листы были чисты.
— Где подписи?
Я пожал плечами вместо ответа.
— Долой цветы! — обозлился комиссар.
— Цветов я не сниму. Какой закон запрещает принести цветы на гроб усопшего? Или вы боитесь мертвого?
— Мы не боимся никого! Очистить от публики помещение! Убрать цветы! — скомандовал комиссар полицейским. — Здесь можно только проходить.
Присутствующие товарищи запротестовали: полиция принялась «очищать» комнату от посетителей и цветов. Один из товарищей пошел предупредить входящих, чтобы они спрятали цветы.
Полицейские сняли цветы с гроба, и печальная церемония прощания возобновилась. Комиссар удалился. Проходившие товарищи приносили с собой цветы, мужчины — в карманах или под полою, женщины — в сумках, под платками… Они склонялись над гробом, некоторые целовали крышку гроба и, уходя, оставляли красный цветок. На глазах у растерянных полицейских гроб снова покрылся цветами. У многих по щекам катились слезы. Один солдат разрыдался над гробом; пришлось его вывести, спасая от ареста.
К вечеру снова явился комиссар и приказал прекратить «демонстрацию». Мы попросили разрешения сфотографировать гроб, у подножья которого красовались три венка: один от Коминтерна, другой от Итальянской компартии и третий от миланской федерации партии. Пока товарищи устраивали венки и фотограф прилаживал свой аппарат, я и товарищ Репосси, тогда депутат от Милана, а теперь каторжанин, занимали полицейских разговорами. Польщенные беседой с самим «онореволе», агенты не приметили ни красных лент, ни венков, ни надписи на них. Когда они спохватились, дело было сделано: часть негативов и ленты уже исчезли.
— Где ленты? — спросил рассерженный комиссар.
— У меня! — ответила одна из работниц.
— Отдайте!
Она запротестовала; ее увели в комиссариат, где после бесплодного обыска отпустили. А мы благополучно отнесли в потайное место и негативы и ленты.
В день похорон у входа в крематорий собралась огромная толпа, несмотря на опубликованное полицейскими властями запрещение участвовать в похоронах, мотивированное соображениями «общественного спокойствия». По сведениям фашистской печати, присутствовало свыше десяти тысяч человек; в действительности цифра эта должна быть увеличена в несколько раз.
В самый крематорий были допущены только несколько членов семьи и представителей партии, всего четырнадцать человек при пятидесяти полицейских!
Пепел, собранный в небольшую урну… вот что осталось от одного из лучших революционеров Италии… Но его дело, его мысли, его чувства сохранены партией.
Вспомнились мне его слова на третьем съезде партии в 1926 г.:
— Вернувшись снова к вам, я чувствую себя переродившимся. Я ничего не прошу, кроме разрешения работать с Коммунистическим Интернационалом.
В доме Серрати я застал Ладзари.
— Лучше бы умер я! — твердил печально старик. — Я уже стар, он мог бы еще много сделать для пролетариата!
Он плакал…
Вскоре умер и он.
11 сентября — новое покушение на Муссолини: бомба Лючетти[106]. Снова аресты, избиения и убийства. И, конечно, новые ограничения наших «свобод».
Террачини и Биболотти были арестованы на другой же день после покушения и больше не были освобождены, так как при них был найден компрометирующий материал. Арестовали было и меня, но за отсутствием улик выпустили. Ненадолго!
Полицейская петля затягивалась все туже, работать легально было совершенно немыслимо, и партия почти целиком ушла в подполье. Но нельзя было добровольно отказываться даже и от тех жалких крох законности, которые еще уцелели от начавшегося террора, и полулегальная деятельность наша все еще не ликвидировалась окончательно.
Но что это была за деятельность! «Унита» конфисковывалась до четырех раз в неделю. «Задержания» превращались в непрерывный арест. Дубинка работала вовсю. Чувствовалось, что не сегодня-завтра петля затянется окончательно.