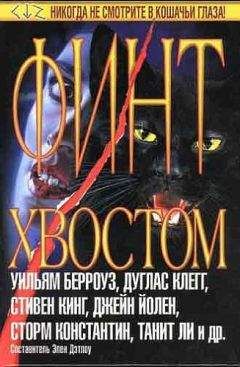Любовь Скорик - Произведения
Он вечно на всё, что надо обойти, натыкался. Мимо всего, куда надо попасть, промахивался. Везде терял ориентир и координацию. Даже поесть аккуратно у него не получалось — расстояние между чашкой на столе и собственным ртом ему представлялось совсем иным.
Что касается работы, то она у него категорически не шла. Он ненавидел себя нынешнего — неуклюжего и неумелого — изводился, психовал. Иногда принимался остервенело грызть свои глупые корявые пальцы и каждый день собирался из артели уйти. И ушёл бы наверняка. Если бы не Анна Николаевна.
— Ты мне, Капитан, дисциплину тут не разлагай! — сурово шипела она ему в ухо. — Ишь ты, красна девица нашлась! Уговаривай, понимаешь, его! Бросить-то всяк дурак может. А потом-то вот что? По вагонам с шапкой пойдёшь, что ли? Дома сиднем сидеть станешь? Сразу сопьёшься — это я тебе точно говорю. Да и пенсия твоя велика ли? Жене на шею усядешься? Давай, давай! То-то от людей и от детей твоих уважение будет! Ты дурака-то не валяй, учись-ка вот, старайся. Главное тебе — не завитушки из прутиков научиться мастерить, а пальцы свои вышколить. Чтоб слушались да заместо глаз служить начали. А уж потом ты — хоть куда. С твоим-то образованием, с силищей этакой ты знаешь, какую работу сыщешь! Только тебе ни за что нельзя вот сейчас скиснуть. Слышишь — ни за что! А корзин этих ты, Капитан, не стыдись. И людям они — вещь нужная, и пальцам твоим — школа первейшая. Так что дурака тут не валяй, а работай и работай. Давай-ка ещё вместе попробуем. Бери прут. Та-ак. Теперь — другой, хорошо. Ну, поехали!..
Капитан горел в танке. Каждый раз, когда я глядела на него, то вспоминала только что ободранного суслика в руках старика сторожа на бахчах. Старик был ветхий, подслеповатый, дрожащий. Уберегая шкурку от порезов, он безбожно искромсал ничтожное тельце, исковырял своим безжалостным тупоносым ножом. Весь жалконький щупленький зверёк был рвано изрыт, будто неумело вспахан. А вдоль распоротого брюшка болтались лохмотья бледной плоти в нечастых бисеринках тёмно-бордовой крови.
Если бы тот суслик ожил и встал столбиком рядом с Капитаном, то не только я, но и все вокруг увидели бы, как они похожи.
Когда они были рядом — Капитан и Анна Николаевна — она казалась особенно красивой. Но — странное дело — он от этого соседства вовсе не становился страшнее. Напротив, её красота как-то сглаживала, затушёвывала самые его пугающие шрамы.
Должно быть, красота была сутью Анны Николаевны — и смыслом её жизни, и главным мерилом в оценке всего и всех вокруг. Она часто произносила это слово. Иногда — в сочетаниях самых неожиданных. Вроде: "Ох и красивый сегодня дождь!" Или: "Посидели мы с ней, повспоминали. Кра-асиво поплакали".
Когда я впервые пришла в её цех и нас с ней познакомили, Анна Николаевна после первых, обязательных вопросов про имя, возраст, учёбу — вдруг спросила (наверное, для неё было важно): "Ты ведь красивая, правда?" К тому времени я уже всё про себя уразумела и ответила ей честно. Кажется, она огорчилась и не захотела поверить: "Обманываешь, да? Я вот сейчас проверю". И её пальцы тепло и невесомо заструились по моему лицу. Поворошили жиденькие волосёнки. Нервно дрогнули на давнем длинном шраме через левый висок. Пробежались по реденьким, еле приметным моим бровкам. Скользнули по острым, норовящим прорвать кожу скулам. Тронули по-лягушачьи большой рот, наткнулись на плотную коросту вокруг (проклятущая неотвязная малярия!) и виновато замерли.
По прикосновениям этим — чутким, ласковым — я поняла, что Анна Николаевна — человек добрый. И потому приготовилась услышать утешительную неправду. Но она длинно вздохнула и соврала совсем не так, как я ожидала:
— Такие вот, как ты, расцветают поздно. Не горюй! К тебе красота потом придёт. Обязательно! Тебе ещё все твои подружки завидовать станут. Это я тебе точно говорю. Вот потом ты меня будешь вспоминать.
Это правда — я её вспоминала. Часто вспоминала. И, как она велела, не горевала. На чужую красоту не зарилась, к себе её не примеряла. Даже не завидовала ей. Я всё своей, обещанной, дожидалась… Да, хорошо соврала Анна Николаевна. Красиво!
ххх
В той же конюшне, как раз посередине, между гробами и корзинами, зимой и летом неукротимо полыхала сказочная клумба. На ней были собраны цветы, наверное, всех видов и сортов, известных людям. Впрочем, и не обязательно известных. Для здешних цветоводов законы природы были не указ. На одном стебле спокойно уживались ромашка, колокольчик и ещё какая-то неведомая миру диковина умопомрачительной формы и раскраски.
По буйству красок с этой сибирской клумбой вряд ли мог потягаться самый изысканный цветник, обласканный благодатным тропическим солнцем. На ней слепяще полыхали все мыслимые и немыслимые цвета. Причём — первозданные, на полутона и оттенки не размененные. Полутонов тут не признавали.
Казалось бы, меня, девчонку, эта яростная красота должна была влечь к себе неудержимо. Ан нет. Я пробегала мимо клумбы неохотно, спешно, да и то — прикрыв глаза и заперев дыхание. Имелась на то причина. Яркие пышные цветы на клумбе были неувядаемы. Но немеркнущая эта красота, должно быть, дарована им взамен на аромат — были те цветы абсолютно непахучи.
Для меня, от природы наказанной пронзительным собачьим чутьём, этот вроде бы пустяковый недочёт был болезненно-неестественным. Никакая самая неуёмная яркость не могла мне возместить отсутствие самого слабого аромата. Это явное несоответствие угадывалось чуткой детской натурой как неполноценность, несовершенство и даже как противоестественность. А это уже не могло не пугать и не отталкивать.
Бывала я здесь реже, чем в других закутках конюшни. Ни с кем из цветочниц знакомства не водила, близко не сошлась. Помню их довольно смутно. Разве только — что работали там исключительно лишь женщины и все сплошь — слепые. Я совсем не любила смотреть, как из ворохов крашеных стружек возникают слепящие и ошарашивающие диковины: невиданная помесь розы и чертополоха, гвоздики и одуванчика.
Сработанная эта красота растекалась отсюда в двух направлениях: в столярку, на украшение гробов — в дар покойным и в артельский ларёк — на утеху живым. У нас дома, на комоде, в пустых флаконах из-под одеколона "Красный мак", несколько лет неугасимо полыхали два радужных диковинных букета неведомых природе цветов.
В каждом из этих букетов присутствовало по одному и вовсе озадачивающему экземпляру. Их игривые кудрявые лепестки были… ярко-зелены, а аккуратные продолговатые резные листочки — ослепительно-красны. Я помню, какой переполох подняла эта диковина, однажды вдруг невзначай явившаяся миру под сводами конюшни. А чудо то свершилось просто. Кто-то там, видно, второпях перепутал "право" — "лево" да и поставил в цехе коробки с красными и зелёными стружками наоборот. И несколько часов цветочницы упорно нарушали вековые законы природы. Пока не зашёл в цех кто-то из зрячих и не прекратил это кощунство.