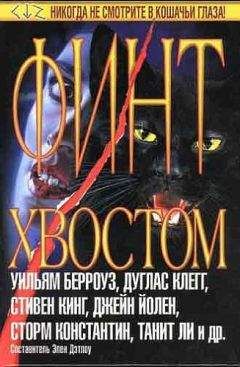Любовь Скорик - Произведения
Всякому дураку понятно — это точно. Только не Веньке-Рыжему, хоть вообще-то он парень вовсе не глупый. Ну вот никак этого простого факта в толк не возьмёт. Не хочет ни за что смириться, не желает — и точка. Всё чего-то там пыжится, прям из кожи вылазит, вот же чудила шальной! Говорят, они все, рыжие-то, такие настырные.
Вообще-то Венька никакой вовсе и не рыжий, а совсем даже наоборот — "жгучий брюнет", как определила его сеструха Нинка, сама такая же "жгучая". Оба они будто и не дети своим родителям — сереньким и неприметным. А эти-то удались, ты скажи, на удивление — обличьем дюже цыганистые. Больно уж волос у них обильно и бровей переизбыток, да таких смоляных, что поначалу чего-то другое и разглядеть трудно.
— Ух ты! — ахнул Костя, когда Венька впервой появился в цехе. — Вот это да! Какой же ты, друг… рыжий-то! — И, довольный своей шуточке, весело захохотал. Следом засмеялись и другие — поглянулась Костина потешка. Так и стал Венька Рыжим. Попервости серчал. Даже как-то сгоряча волосы под корешок состриг. Да что проку? А глазища да брови куда денешь? Из них же так и брызжет его "жгучесть". И остался Венька Рыжим. Потихоньку и злиться перестал, смирился с прозвищем.
А вот с пустой штаниной смириться нипочём не желает. С одной ногой оставаться ни за что не соглашается. Подавай ему другую — и всё тут! Такой уж оказался Венька настырный. Одно слово — Рыжий. Да оно и понятно: Веньке ведь только двадцать. Сразу из школы — на фронт. Ему же ещё побегать надобно, пофасонить, с девчонками похороводиться. Да ещё как на грех был он в школе лучший танцор. Вот теперь и изводится.
И не так чтобы втихаря, про себя попереживал бы — и ладно. Дак ведь нет — прям вусмерть бьётся, будто без ноги этой ему и свету белого нету. Никак не отступается, бесперечь что-нибудь да удумывает. И каких только деревяшек себе не прилаживал! Чего только не учинял! Ему в столярке даже деревянную ступню вырезали. Да так аккуратненько, так ловко, что и штиблет на неё обувать можно. Чтобы, значит, не торчала, как у всех, из брючины голая палка да не стучала бы об пол, словно молотком по темечку: тюк да тюк. Ступню-то ему кое-как приладили. Да оттого сама поддельная нога, и без того рвущая тело в кровь, сделалась вовсе неподъёмной и слушаться напрочь перестала.
Поехал неуёмный Венька на протезный завод, далеко куда-то. Деньжищ проездил — страсть! Аккордеон свой любимый спустил (одна только и была у него вещь к сердцу) и костюм бостоновый — ещё к выпускному ему справили, да носить его не пришлось, так что, почитай, новенький был. Сделали Веньке на заводе новую ногу — не деревянную, а какую-то другую. Всё-то у неё, как в настоящей. Даже башмак на ней есть. И как цеплять её к Веньке, придумали. Да, видать, прицепить-то — ещё не фокус. А вот научить её ходить…
На Веньку другой раз просто поглядеть — и то больно. Эта неродная-то нога, видать, огнём его палит, дёром дерёт. Ему бы отстегнуть её, отдых себе дать. А он — вот рыжун меднолобый! — закусит губу и пошёл, пошёл вдоль всей конюшни, туда-сюда, туда-сюда. Даже Костя шуточки свои отставляет и песню любимую петь забывает.
Нинка по секрету проболталась, что по вечерам мать с Венькиных штанов кровь состирывает. Стирает и плачет, Христом-богом просит сына бросить издеваться над собой. А он — одно: нет и всё тут! Мол, ещё увидите: я не то что ходить — танцевать буду! Что с него, меднолобого, возьмёшь? Одно слово — Рыжий…
Самое смешное, что Венька-то ведь обещание своё исполнил. Уже на следующее лето в городской парк на танцульки бегал. Ну, конечно, не так, как раньше, а всё же не последним танцором слыл. И не только фокстроты да танго за милу душу отчебучивал, но ведь и вальсы кружил, правда, в одну только сторону.
Там, на танцплощадке, и жену себе сыскал — Вальку рыжую. Да не по прозвищу рыжую-то — по-настоящему, прямо вот огнём горит. Для всех она рыжая, а для Веньки — золотая. Двух деток ему родила: пацана и девку. Оба — в отца, "жгучие" да бровастые, что цыганята. "Ишь ты, и эти рыжие!" — подвёл итог неугомонный Костя.
Дальний от входа угол в сапожном был для меня самым нелюбимым. Точнее сказать, жуткий был угол, всякий раз пугающий. Там заходилось надсадным свирепым воем чудище, какого не удумала самая страшная сказка. Помесь железной машины (как я теперь понимаю — просто швейной, только очень большой, сапожной) и людских обрубков — не сразу даже и сообразишь, скольких именно. Мало вразумляло на этот счёт и то ли имя этого чуда-юда, то ли его заводская марка — "Полтора Ивана".
С одной стороны к машине была приторочена нижняя половина человека. Рабочими у неё были ноги. Они неустанно нажимали на педали, вращая железное колесо, которое приводило в действие весь хитрый механизм — тарахтящий, лязгающий. Торчащая над машинкой безрукая верхняя половина туловища для дела была не нужной, а значит, в этой человеко-машинной комбинации деталью абсолютно лишней. Её с успехом замещала верхняя половина другого человека — безногого, зато со сноровистыми руками. Руки эти неспешно, но очень ловко, без лишних движений подхватив заготовку, подводили её под стрекочущую иглу, уверенно направляли куда надо, затем отбрасывали в стоящий рядом ящик и подхватывали новую.
Как договаривались между собой и понимали друг друга эти чужеродные руки и ноги, чтобы совпадать в беспрерывной, непростой и небезопасной работе? Безустанно стрекочущая стальная игла была неумолима и неразборчива — ей было абсолютно всё равно, что пронзать: кирзу, хром или же человеческие пальцы. Имеющиеся в наличии две головы служить посредниками вряд ли могли: самые быстрые слова за юркой иглой никак не поспели бы. Быть может, Полтора Ивана уже тогда использовали мудрёные биотоки, которые человечество начинает открывать лишь сейчас, полвека спустя? Не знаю. Не ведаю, и сколько зарплат получали Полтора Ивана — одну или две? Скорее всего — полторы.
ххх
Я бы ни за что не ходила мимо этого пугающего угла, да не было другой дороги в соседний цех, куда меня тянуло неудержимо. Что меня влекло туда? Должно быть, царящая там красота, по которой за войну моя детская душонка истосковалась.
Здесь тоже, как в столярке, пахнет лесом. Но не так остро, совсем иначе. Там — бором и Новым годом, здесь же — прибрежной рощицей и пасхальной вербой. А ещё — недавним наводнением. Да и его явные следы — вот же они, пожалуйста. Видать, шалая река, вздурившись, пёрла напролом, продираясь сквозь дремучий кустарник, крушила его, выворачивала, волокла за собой. Теперь вот опомнилась — присмирела, отхлынула, схоронилась где-то тишком. А разбой за собою оставила. Всюду — вороха веток Пучки голых, гладких, прилежно выполосканных прутьев клокасто топорщатся, норовя зацепить, уколоть.