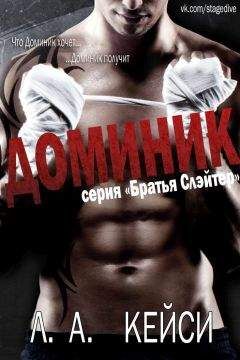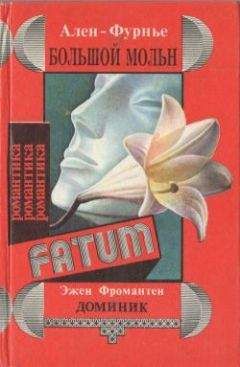Борис Тарасов - Чаадаев
Его беседы о религии, обращается Чаадаев к «даме», нигде не упоминая имени Пановой, не принесли ей желаемого мира и успокоения, а, напротив, усилили тоску и беспокойство потому, что она не до конца вышла из прежнего состояния и не вполне вверилась новым мыслям. Посему необходимо стараться безбоязненно и самоотверженно отдаваться сердечным движениям, пробуждаемым религиозным чувством. Чтобы сохранить и закрепить эти движения, рекомендует он, следует упражняться в покорном служении богу, то есть строго соблюдать все церковные обряды, внушенные высшим разумом и обладающие животворной силой. Надо также и в повседневности сохранять их дух.
Однако, предупреждает автор письма, осуществлению подобных намерений мешает «печальный порядок вещей», отсутствие в русской действительности «необходимой рамки жизни, в которой естественно размещаются все события дня» и которая нужна для нравственного здоровья, как чистый воздух для здоровья физического. Речь идет, разъясняет он, не о каких-то моральных принципах или философских истинах, а «просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека». Именно отсутствие благоприятных внешних условий для должного душевного режима, замечает автор, не позволяет «даме» взрастить брошенные им в ее сердце семена веры, претворить в реальность «величавые эмоции созерцания».
Без убеждений же и правил в повседневном обиходе, незаметно переходит он от личных проблем к социальным, не созревают семена добра и в русском обществе, где, по его мнению, нет развития элементарных идей долга, справедливости, права, порядка и никто не имеет «определенной сферы существования». Но ведь эти идеи и упорядоченность общественного бытия, вводит он элементы контраста, составляют атмосферу современного Запада, стали «физиологией европейского человека». Почему же, повышает Петр Яковлевич интонацию, мы не умеем жить разумно в эмпирической действительности? И почему то, что у других народов обратилось в инстинкт и привычку, нам «приходится вбивать в головы ударом молота»?
Для ответа на подобные вопросы Чаадаев обращается, постепенно расширяя и углубляя сравнительную характеристику России и Европы, к истории, являющейся, по его словам, «ключом к пониманию народов». Идеи, связанные с таинственным смыслом исторического процесса, с ролью отдельных стран, в частности России, в судьбах всего человечества, занимают центральное место в его мыслительной деятельности и составляют главный стержень первого философического письма, для лучшего уяснения своеобразия выводов которого важны высказывания из других философических писем, а также из более поздней переписки. Он выражал на особый лад общую тягу эпохи к историзму, по-своему преломившуюся, как известно, в творческом опыте Пушкина, к философскому осознанию протекших и грядущих веков. «Современное направление человеческого духа, — писал Чаадаев, — побуждает его облекать все виды познания в историческую форму… Можно сказать, что ум чувствует себя теперь привычно лишь в сфере истории, что он старается ежеминутно опереться на прошлое и лишь настолько дорожит вновь возникающими в нем силами, насколько способен уразуметь их сквозь призму своих воспоминаний, понимания пройденного пути, значения тех факторов, которые руководили его движением в веках». Словно дополняя эти слова, Герцен в начале 40-х годов замечал: «История поглотила внимание всего человечества и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед».
Пытая прошедшее и стремясь угадать пророчества былого, Чаадаев не находил ответов на волновавшие его вопросы в «обиходной», по его выражению, истории. Под обиходной историей он понимал эмпирический, описательный подход к различным социальным явлениям, в котором нет нравственной ориентации и надлежащего смыслового исхода для человеческой деятельности. По его мнению, такая история, в которой со своей совершенно свободной волей действует «только человек и ничего более», видит в беспрестанно накапливаемых событиях и фактах лишь «беспричинное и бессмысленное движение», бесконечные повторения в «жалкой комедии мира».
Подлинная, философски осмысленная «во всем ее рациональном идеализме» история, по мысли Чаадаева, должна «признать в ходе вещей план, намерение и разум», должна постигнуть человека как нравственное существо, изначально многими нитями связанное с «абсолютным разумом», «верховной идеей», «богом», «а отнюдь не существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте, то есть насекомое-поденка, в один и тот же день появляющееся на свет и умирающее, связанное с совокупностью всего одним только законом рождения и тления».
Следует сказать несколько слов о религиозном аспекте философических писем Чаадаева, который, по словам Чернышевского, был «человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия». Чаадаев называл себя христианским философом, что, по мнению советских исследователей, является точной самооценкой. «Верная оценка Чаадаева, — замечает М. Григорьян, — пожалуй, дана самим же Чаадаевым: он «христианский философ». Такого же мнения придерживается и З. Смирнова: «Чаадаев действительно был христианским философом». Игнорирование христианского начала ведет к существенному искажению своеобразия всего творчества Чаадаева, о чем напоминает Л. Филиппов: «До сих пор нет-нет да и встретится еще такое мнение: мировоззрение того или иного писателя, общественного деятеля, мыслителя, связанного в своем творчестве с религиозной традицией, содержательно до тех пор, пока оно не касается религии. Однако опыт исторической науки показывает (а изучение взглядов Чаадаева лишний раз подтверждает), что без исследования всего комплекса идей данного мыслителя, в том числе и религиозных», невозможен подлинно научный подход к явлениям культуры.
Следует подчеркнуть нетрадиционность «христианской философии» Чаадаева. В ней не говорится ничего ни о греховности человека, ни о спасении его души, ни о церковных таинствах, ни о чем-либо подобном. Чаадаев делал умозрительную «вытяжку» из библейского материала и представлял христианство как универсальную силу, способствующую, с одной стороны, становлению исторического процесса и санкционирующую, с другой стороны, его благое завершение.
По мнению Петра Яковлевича, в обозримом течении времен такая сила наиболее выпукло проявилась в католичестве, где «развилась и формулировалась социальная идея христианства», определившая ту сферу, «в которой живут европейцы и в которой одной под влиянием религии человеческий род может исполнить свое конечное предназначение», то есть установление земного рая. Таким образом, религиозно-философское и социально-прогрессистское начала, эти два главных ответвления «одной мысли», созревшей у Чаадаева в деревенском одиночестве, сливаются сейчас под его пером в органическое целое, в действительно подлинную «одну мысль» именно через католичество, где им как раз подчеркнуто двуединство религиозно-социального принципа.