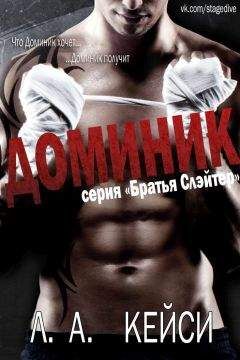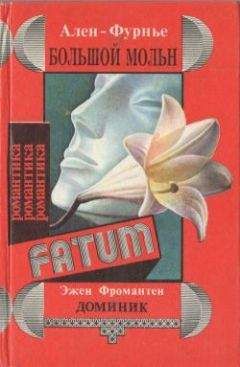Борис Тарасов - Чаадаев
В отличие от «обыкновенной» Авдотьи Сергеевны Норовой Екатерина Дмитриевна Панова выделяется в глазах Чаадаева из толпы беспокойством духа и развитостью ума, умением находить «прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания». Надо только, думает он, наполнить эти свойства существенным содержанием, ибо молодая женщина не заглядывает в Евангелие, не ходит в церковь и вообще пребывает в полном религиозном неведении. Тогда и многие тяжелые для нее проблемы повернутся к ней другой стороной.
И Петр Яковлевич советует Екатерине Дмитриевне, говоря словами его первого философического письма, «облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу», что «скорее всего умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование». Свои наставления он продолжает и в Москве, где в 1828 году почти постоянно встречается с супругами Пановыми, одалживая даже, при собственных больших долгах, им деньги. Екатерина Дмитриевна испытывает безграничное уважение к Чаадаеву, характеру которого, по ее словам, свойственна «большая строгость». Она покорена его всецелой поглощенностью высокими мыслями. Ей представляется, что она прониклась «философией смирения» и понимает ее утешительные, хотя и необычные в свете существующей традиции, выводы. «Слыша ваши речи, я веровала, — напишет она ему через несколько месяцев, — мне казалось в эти минуты, что убеждение мое было совершенным и полным».
А Петр Яковлевич чувствует, что чрезмерная экзальтация, с какой вразумляемая им женщина отдается его внушениям, свидетельствует не только о верованиях и убеждениях. К тому же, кажется, и в московском обществе об их встречах поползли двусмысленные слухи, не беспокоящие ее, но весьма настораживающие проповедника. И он делится своими сомнениями с мужем Пановой, оценивающей такой жест как «жестокое, но справедливое наказание за то презрение, которое я всегда питала к мнению света». Еще большим наказанием является для нее постепенное удаление Чаадаева от их дома, хотя беседы с ней, по его собственному признанию, служили ему «утешением в дни крайней нужды».
А «нужда» действительно была крайняя. «Философия достоверностей», казалось бы, должна была завершить процесс внутреннего перерождения Чаадаева, внести в его душу покой и ясность цели. Однако для подобного воздействия ей не хватало, учитывая характер Петра Яковлевича и особенности возложенной им на себя «пророческой» миссии, материального воплощения и соответственно широкомасштабной публичности. «Побочные» обстоятельства, вытекавшие из попыток «обратить» встреченных на жизненном пути женщин, также не способствовали его духовному умиротворению.
Чтобы систематизировать свои воззрения на бумаге, он совершенно уединяется от общества, испытывая одновременно сильнейшие приступы притихшего было раздражения против всего окружающего. «Возвратясь из путешествия, — замечает встречавшийся с ним в Берне Д. Н. Свербеев, — Чаадаев поселился в Москве и вскоре, по причинам едва ли кому известным, подверг себя добровольному затворничеству, не видался ни с кем и, нечаянно встречаясь в ежедневных своих прогулках по городу с людьми, самыми ему близкими, явно от них убегал или надвигал себе на лоб шляпу, чтобы его не узнавали». Характерно также свидетельство С. П. Жихарева, относящееся, правда, к 1829 году, но в еще большей степени справедливое для 1828-го. Занятый утряской финансовой части отношений между Петром Яковлевичем и А. И. Тургеневым, он сообщал последнему: «Чаадаеву о деньгах ни за что говорить сам не решусь. Он уверял меня, что остался должен только 5 тысяч рублей, которые через год и заплатил мне, и после того ни ко мне не ходит, ни меня к себе не пускает; да лучше сказать ни к кому и никого. Сидит один взаперти, читая и толкуя по-своему Библию и отцов церкви…»
Едва ли не единственное исключение своевольный толкователь Библии и отцов церкви делает для докторов, рекомендующих ему почаще гулять и развлекаться. По словам М. И. Жихарева, не ужившись в деревне с «теткой-старухой», Петр Яковлевич проживал в древней столице «на разных квартирах, в которых проводил время, окруженный врачами, поминутно лечась, вступая с медиками в нескончаемые словопрения и видаясь только с очень немногими родственниками и братом». Новые припадки ипохондрии, реальные и мнимые заболевания заставляют его совмещать воплощение философского замысла с тщательным изучением медицинской литературы. Заглядывая во время прогулок в книжные магазины на Петровке, Чаадаев покупает множество специальных сочинений.
В заботах о здоровье и путях материализации своей мысли Петр Яковлевич, замечает его племянник, «предался некоторого рода отчаянию. Человек света и общества по преимуществу, сделался одиноким, угрюмым нелюдимом… Уже грозили помешательство и маразм…» Сам Чаадаев признается позднее графу С. Г. Строганову, что находился тогда во власти «тягостного чувства» и, как передает его слова графу Д. В. Давыдов, был близок к сумасшествию, «в припадках которого он посягал на собственную жизнь».
3
В таком состоянии Чаадаев получает послание, послужившее внешним формообразующим толчком для систематизации его философии. В очередной раз писала Панова, печалясь по поводу потери его благорасположения и делясь с ним своими затруднениями. Она уверяет Петра Яковлевича, что в пылкости ее религиозного чувства нет фальши и актерского стремления заслужить его дружбу. Оно казалось ей подлинным в его присутствии, но затем, в одиночестве, она вновь начинала сомневаться: «Совесть укоряла меня в склонности к католичеству, я говорила себе, что у меня нет личного убеждения и что я только повторяю себе, что вы не можете заблуждаться; действительно, это производило наибольшее впечатление на мою веру, и мотив этот был чисто человеческим. Поверьте, милостивый государь, моим уверениям, что все эти столь различные волнения, которые я не в силах была умерить, значительно повлияли на мое здоровье; я была в постоянном волнении и всегда недовольна собою, я должна была казаться вам весьма часто сумасбродной и экзальтированной…» Повергая на суд Петра Яковлевича свои объяснения и сомнения, Екатерина Дмитриевна просит его написать несколько слов, но не тешит себя радостной надеждой получить их.
Обдумывая ответное послание и набрасывая первые его строки, Чаадаев не может сдержать наплыва мыслей, в которых метаморфозы собственного сознания и душевное неустройство корреспондентки, различные общественно-исторические ситуации и мировые цели как бы перекликаются и просматриваются друг через друга. Все это подсказывает ему искомый жанр выражения накопившихся проблем, соответствующий не только духовному своеобразию адресата, но и характеру его философии, ее широкому предназначению. Теперь начальные строки переделываются, привлекается дополнительный материал, и личное письмо в процессе работы превращается в знаменитое первое философическое письмо.