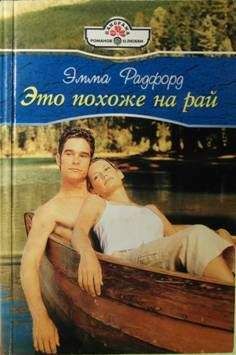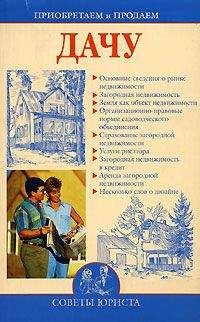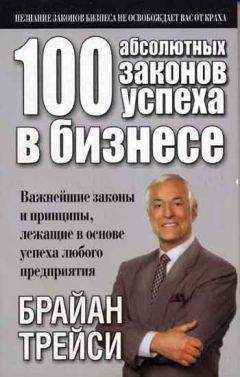Софья Толстая - Мой муж Лев Толстой
Много сижу одна, в своей комнате, Буланже говорит, что моя комната похожа на комнату молодой девушки. Странно, что теперь, когда я живу одна и никогда мужской глаз или мужское прикосновение не касается больше меня, – у меня часто девичье чувство чистоты, способности долго, на коленях молиться перед большим образом Спасителя или перед маленьким – Божьей Матери, благословенье тетеньки Татьяны Александровны Льву Николаевичу, когда он уезжал на войну. И мечты иногда не женские, а девичьи, чистые…
13 июляБольшая суета с самого утра. Приехали к Л.Н. два итальянца: один аббат, которого больше интересовала русская жизнь и наша, чем разговоры; другой – профессор теологии, человек мысли, энергичный, отстаивал перед Л.Н. свои убеждения, которые, главное, состояли в том, что надо проповедовать те истины, которые познал в религии и нравственности, не сразу разрушая существующие формы. Л.Н. говорил, что формы все не нужны, что «la religion, c’est la verite»[17], a что церковь и формы есть ложь, путающая людей и затемняющая христианские истины.
Очень интересно было слушать эти разговоры. Потом приехали сыновья Лева и Андрюша. Еще позднее Стахович с дочерью и сын Миша.
Разговоры, крики детей, суета еды и питья – ужасно утомительны. Приезжали отец старик и жена приговоренного за богохульство Афанасия, очень были жалки, но помочь им уж, кажется, нельзя. Л.Н. просил об этом Афанасии государя, которому писал письмо, переданное графом Александром Васильевичем Олсуфьевым.
Маша с Колей уехали, и как приезд их, так и отъезд остались незаметны у нас в доме.
10 августаОбыкновенно говорят, что мужа с женой никто, кроме Бога, рассудить не может. Так пусть же письмо, которое я перепишу здесь, не даст никогда повода к осуждению кого бы то ни было. Но оно во многом перевернуло мою жизнь и поколебало мое отношение, доверчивое и любовное, к моему мужу. Т. е. не письмо, а повод, по которому я его написала своему мужу.
Это было в год смерти моего любимого маленького сына Ванички, умершего 23 февраля 1895 года. Ему было семь лет, и смерть его была самым большим горем в моей жизни. Всей душой я прильнула к Льву Николаевичу, в нем искала утешения, смысла жизни. Я служила, писала ему, и раз, когда он уехал в Тулу и я нашла его комнату плохо убранной, я стала наводить в ней чистоту и порядок.
Дальнейшее объяснит все…
Сколько слез я пролила, когда я писала это письмо.
Вот мое письмо; я нашла его сегодня. 10 августа, в моих бумагах. Это черновое.
«12 октября 1895 г.
Все эти дни ходила с камнем на сердце, но не решалась говорить с тобой, боюсь и тебя расстроить, и себя довести до того состояния, в котором была в Москве до смерти Ванички.
Но я не могу (в последний раз… постараюсь, чтоб это было в последний) не сказать тебе того, что так меня заставляет сильно страдать.
Зачем ты в дневниках своих всегда, упоминая мое имя, относишься ко мне так злобно? Зачем ты хочешь, чтоб все будущие поколения поносили имя мое, как легкомысленной, злой, делающей тебя несчастным – женой? Если б ты меня просто бранил или бил за то, что ты находишь дурным во мне, ведь это было бы несравненно добрей (то проходяще), чем делать то, что ты делаешь.
После смерти Ванички… – вспомни его слова: «Папа, никогда не обижай мою маму», – ты обещал мне вычеркнуть эти злые слова из дневников своих. Но ты этого не сделал; напротив.
Или ты боишься, что слава твоя посмертная будет меньше, если ты не выставишь меня мучительницей, а себя мучеником?
Прости меня; если я сделала эту подлость и прочла твои дневники, то меня на это натолкнула случайность. Я убирала твою комнату, обметала паутину из-под твоего письменного стола, откуда и упал ключ. Соблазн заглянуть в твою душу был так велик, что я это и сделала.
И вот я натолкнулась на слова (приблизительно; я слишком была взволнована, чтоб помнить по-дробно):
«Приехала С. из Москвы. Вторглась в разговор с Боль. Выставила себя. Она стала еще легкомысленнее после смерти Ванички. Надо нести крест до конца. Помоги мне, Господи»… и т. д.
Когда нас не будет, то это легкомыслие можно толковать как кто захочет, и всякий бросит в жену твою грязью, потому что ты этого хотел и вызываешь сам на это своими словами.
И все это за то, что я всю жизнь жила только для тебя и твоих детей, что любила тебя одного больше всех на свете (кроме Ванички), что легкомысленно (как ты это рассказываешь будущим поколениям в своих дневниках) я себя не вела и что умру и душой и телом только твоей женой…
Стараюсь стать выше того страданья, которое мучает меня теперь; стараюсь стать лицом перед Богом, своей совестью, и смириться перед злобой любимого человека, и помимо всего, оставаться всегда в общении с Богом: «любить ненавидящих нас», и «яко же и мы оставляем должникам нашим», и «видеть свои прегрешения и не осуждать брата своего», – и, Бог даст, я достигну этого высокого настроения.
Но если тебе не очень трудно это сделать, выкинь из всех дневников своих все злобное против меня, – ведь это будет только по-христиански. Любить меня я не могу тебя просить, но пощади мое имя; если тебе не трудно, сделай это. Если же нет, то Бог с тобой. Еще одна попытка обратиться к твоему сердцу.
Пишу это с болью и слезами; говорить никогда не буду в состоянии. Прощай; всякий раз, как уезжаю, невольно думаю: увидимся ли? Прости, если можешь.
С. Толстая».Мы тогда как будто объяснились; кое-что Л.Н. зачеркнул в своих дневниках. Но никогда уже искавшее тогда утешения и любви сердце мое не обращалось к мужу моему с той непринужденной, любовной доверчивостью, которая была раньше. Оно навсегда замкнулось болезненно и бесповоротно.
17 ноябряВхожу вечером в комнату Льва Николаевича. Он ложится спать и перед сном, подняв ночную сорочку, стоит и кругообразно растирает свой живот. Худые, старческие ноги имеют жалкий вид. – «Вот массирую живот, сначала так, потом столько-то таких», – столько-то еще каких-то движений, не помню. Вижу, что ни слова утешенья или участия я от него теперь никогда не услышу.
Свершилось то, что я предвидела: страстный муж умер, друга-мужа не было никогда, и откуда же он будет теперь?
Счастливые жены, до конца дружно и участливо живущие с мужьями! И несчастные, одинокие жены эгоистов, великих людей, из жен которых потомство делает будущих Ксантипп!!
Не по мне вся жизнь. Некуда приложить кипучую жизненную энергию, нет общения с людьми, нет искусства, нет дела – ничего нет, кроме полного одиночества весь день, когда пишет Л.Н., и игры в винт по вечерам, для отдыха Л.Н. О, ненавистные возгласы: «малый шлем в пиках!.. без трех… зачем же сбросили пику, нужно сделать ренонс… каково, как чисто взяли большой шлем…»