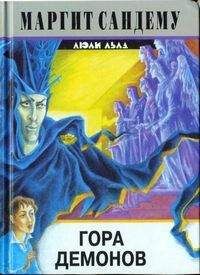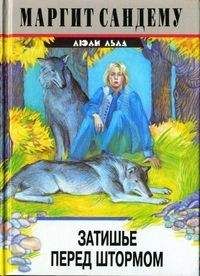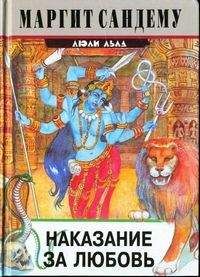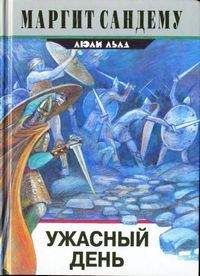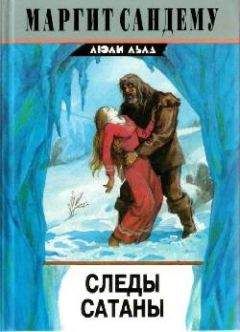Ирэн Фрэн - Клеопатра
Военачальник, которого Цезарь назначил командовать этими солдатами, ежедневно демонстрировал ей свою безупречную лояльность. Это был один из тех лично преданных ему офицеров, которыми император любил себя окружать, — некто 1^фин, скорее всего, сын вольноотпущенника (во всяком случае, не выходец из римской аристократии), человек, не желавший ничего знать о политических интригах. Далекий от того, чтобы попытаться стать двойником Цезаря или отстранить царицу от власти, он прилагал все силы, дабы упрочить просуществовавший уже много веков уклад жизни Древнего Египта. И мир вновь вошел в свой привычный ритм. Нил в надлежащие сроки разливался и оплодотворял поля, сборщики налогов толпами стекались к царским зернохранилищам, все александрийцы оживленно занимались своими делами в мастерских и на пристанях — а Маяк неизменно освещал этот чудесный механизм, производящий золото и все, что нужно для роскошной жизни, механизм, абсолютной владычицей которого была теперь Клеопатра.
Наконец, как бы для того, чтобы ее всемогущество в глазах народа стало еще более очевидным, судьба даровала ей сына. Это был крепкий мальчик, которого жрецы, как они и обещали царице, поспешили признать сыном Амона. Для этого будущего фараона царица, следуя существующей с незапамятных времен традиции, воздвигла «храм рождения» в Гермонтисе, священном городе. На стенах храма выгравировали и ее изображения — величественные и грациозные силуэты царицы, контуры которых соответствуют многовековому иконографическому канону.
Клеопатра не смогла себя узнать в этих образах: она не была ни такой высокой, ни такой худощавой, и профиль ее в жизни казался более резким. Из ее подлинных черт здесь присутствовали, может быть, только хорошо заметная улыбка и живот, еще слегка увеличенный после недавней беременности, и радостный блеск в глазах. Но зато художники не забыли о главном — о символах. О знаках ее священного статуса, знаках власти: короне богини с солнечным диском, обрамленным рогами; магической кобре, украшавшей лоб царицы; амулете в виде иероглифа жизни в ее руке. На изображениях царица прижимала к своей переполненной молоком груди младенца — метафора Египта, матерью коего считала себя Клеопатра.
Да, именно такой смысл заключал в себе этот образ: царица — новая Исида; она восстановила мир в стране, на века и века, ибо ее сын, рожденный от Амона, есть новый Хор. А значит, отсутствием портретного сходства вполне можно пренебречь; отныне Клеопатра хотела видеть себя именно такой, как на этих храмовых изображениях: Великой Исидой, Единственной и Могущественной, Источником закона, Супругой Бога, Владычицей вод, земли и зерна, неба и звезд, ветров, раздувающих паруса кораблей. И, главное, Божественной Матерью.
Такое представление Клеопатра твердо решила распространить и за пределами своей страны. Потому что Флейтист тысячу раз ей повторял: Египет — это, помимо долины Нила, еще и Кипр, и Ливия, и Нубия, и Иудея; говорят даже, что были фараоны, которые, мчась на боевых колесницах и сжимая в руке лук, раздвигали границы египетского государства до берегов Евфрата. Однако повсюду в этих землях — как и в Риме, как и в Греции — люди сейчас переживали мучительную эпоху. Они уже узнали других богов, помимо своих собственных, и потому сомневались, заблуждались, проживали свою жизнь в страхе и страданиях, не способные увидеть горизонт, понять смысл происходящего. Их, как и египтян, необходимо было привести к новому по дорогам надежды; и мог ли найтись лучший символ для этой надежды, в которой сейчас так нуждались люди во всех обитаемых землях, чем молодая мать со своим дитятей?
Несомненно, именно поэтому на монетах, чеканившихся на Кипре (острове, который Цезарь вернул египетской короне), Клеопатра в тот период приказывала изображать себя как царицу с младенцем — как мадонну, хочется мне сказать. На этих изображениях царица одета так, как одевалась чаще всего, — в греческую тунику. Лоб ее украшает традиционная диадема из белой ткани, знак царского достоинства; и, в соответствии с тогдашней модой, она носит шиньон, узлом уложенный на затылке. Однако, поскольку она ощущала себя Исидой, Клеопатра (которая, как все женщины высокого положения, наверняка доверила своего сына кормилице) не побоялась распорядиться, чтобы на монетах ее изображали в образе кормящей матери — чего никогда не делала ни одна царица из рода Лагидов.
Этот ребенок, сосущий грудь, был, как и все остальное, элементом театральной постановки, картиной в ряду других мизансцен, выражавших концепцию власти. Однако люди явно воспринимали этот образ так, как рассчитывала Клеопатра, ибо единственное прозвище, которое к ней пристало (и которое, возможно, придумали именно в тот период), совпадает с эпитетом Исиды: «Великая».
* * *Попалась ли сама Клеопатра в ловушку, полностью отождествив себя с этим образом женщины-богини? Убедила ли себя, что только благодаря ей происходят в должные сроки нильские разливы, что от нее, как от Исиды, зависят судьбы мира? Это маловероятно, потому что, в результате общения с Цезарем и многолетних занятий и размышлений в Библиотеке, она тоже поняла, что такое История. Пусть она поняла это менее отчетливо и была менее одержима своим новым знанием, чем император, однако благодаря своей страсти к книгам она уже давно принадлежала к сообществу (в ту эпоху очень немногочисленному) людей, которые сознавали, что Время само себя формирует; и именно тот (поразивший Цезаря) факт, что она сумела сделать это открытие, придал такую прочность их союзу. Это было важнее, чем общность политических интересов, и уж куда важнее, чем рождение ребенка.
И вот, на второе лето после появления на свет Цезариона, когда диктатор[56] пригласил царицу в Рим, она почти сразу же собралась и выехала из Александрии. Не только потому, что хотела увидеть своего возлюбленного, показать ему его сына; не только чтобы успеть принять участие в празднествах, к которым уже готовились в Вечном городе, или в надежде повторить их былые бурные ночи (уже по просьбам, содержавшимся в его письмах, она поняла, что таких моментов будет немного). На этот раз новая война не отнимет у нее Цезаря. Но задача, которую Цезарь перед собой поставил, потребует от него больше сил и времени, чем любая война. Сейчас он пожелал перестроить Рим, перестроить весь мир. Открыть новую эпоху.
* * *Это было очевидно, проглядывало сквозь строки его писем. Например, он просил царицу привезти с собой в Рим ее инженеров по земляным работам: он узнал, еще когда находился в Александрии, что египтяне уже две тысячи лет назад прорыли канал между Красным и Средиземным морями; сейчас он намеревался осуществить почти столь же грандиозный проект — осушить болота в окрестностях Рима, которые каждую весну заражали город своими ядовитыми испарениями. Но он решил заняться и самим городом, очистить его от грязи и мусора. Поэтому диктатор просил у Клеопатры, чтобы она прислала ему своих архитекторов, с которыми он обсудит планы сооружения новых городских укреплений и улиц, достаточно широких, чтобы на них могли разминуться две колесницы; он хотел, чтобы его город приобрел такую же четкую планировку, какая была характерна для Александрии, — пусть даже, чтобы добиться этого, придется повернуть вспять Тибр. И этот старый Рим, выстроенный из кирпича, он хотел заменить новым, мраморным. Хотел на месте сумрачной и хаотичной цитадели Ромула возвести другой город, в котором было бы много света и воздуха, город, открытый всему миру. Короче говоря, Александрию на берегах Тибра.