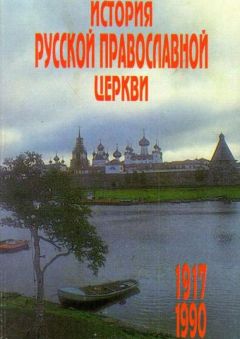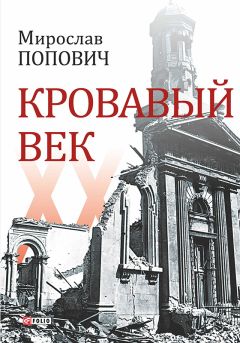Ирена Желвакова - Герцен
Точный, провидческий анализ Герцена, его утверждение, что общество вовсе не отрицает всеобщих интересов, в нем проросших, позволяют автору статьи сформулировать ряд важных положений о философии истории, об истории как о науке, вписавшейся в современный ему политический контекст, без видимых расстановок точек над i: «В наше время история поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед».
Впоследствии в «Былом и думах», написанных без цензуры, первое свое непосредственное впечатление от услышанного Герцен взвесит и обобщит. Он будет размышлять над главной причиной успеха лекций Грановского, который «не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин». «Его сила, — заключит Герцен, — была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительном нравственном влиянии… в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. <…> Излагая события, художественно группируя их, он говорил ими так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслию». «Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду», — писал Герцен о приемах и методах современной науки, привитых историку «поэтически» его другом и учителем Станкевичем.
Непосредственный отчет Герцена о лекциях Грановского в России 1843 года встретил немалые цензурные сложности. В статью, кажется, безобидную, придется внести кое-какие изменения. Для ее прохождения в «Московских ведомостях» — ни в коем случае нельзя упоминать Гегеля. «Откуда эта гегелефобия?» Этого требует граф С. Г. Строганов, давний знакомый, который приязнен к Герцену и старается стоять над схваткой, но цензура — в его ведении. Попечителю Московского учебного округа, даже вполне учтивому, «рыцарски благородному», по признанию Герцена, не пристало быть чересчур либеральным и отпускать натянутые режимом вожжи. Второе письмо «О публичных чтениях г-на Грановского» граф Строганов и вовсе откажется поместить в «Московских ведомостях», и Герцен в дальнейшем будет изыскивать возможность напечатать его любой ценой.
От лекции к лекции успех Грановского растет. Общий фурор. Студенческая молодежь — в эйфории, «треск, вопль, неистовство одобрения». Такого в университете еще не видывали. Жаль, что Наталья Александровна нездорова и многое проходит мимо нее. Герцен пытается передать жене содержание чтений. Но как передать восторг публики, особый трепет, пронизывающий аудиторию всякий раз, когда слышится слабый, точно в душу проникающий голос историка. Тогда Тимофей Николаевич сам вызывается прочесть для Натальи Александровны пропущенные ею лекции.
Вспоминает Т. А. Астракова, присутствовавшая на этих чтениях вместе с М. Ф. Корш и М. К. Эрн, непременными участницами герценовского кружка: «Вот Грановский читает для Наташи, у нее в кабинете. <…> И что это были за лекции! — Не стесняясь публикой и неизбежной в публике цензурой, он читал так живо, так увлекательно, так интересно эти лекции, что, право, мне кажется, лучше этого никто не прочтет… По окончании лекции мы все благодарили Грановского. Наташа молча сжимала его руку и с горячей благодарностью глядела ему в глаза, и у Грановского всегда появлялись на глазах слезы, и он спешил уйти».
Нарастающий успех лекций Грановского множил армию его врагов. К середине декабря 1843-го становится ясно, что, соблюдая «хорошую мину», они лишь приумолкли, чтобы, как выразится Герцен, «дать пошире скачок».
И действительно, незатухающая война двух, прочно укоренившихся противоборствующих групп, спровоцированная общественным резонансом лекций Грановского, обнаружила бездну противоречий между сторонниками историка и его противниками, получившими, как известно, весьма условные названия — «западники» и «славянофилы».
Тут настало время, хотя бы коротко, вспомнить о двух течениях русской общественно-литературной мысли, в которых развивалась идеология «истинных славянофилов» (по слову Чернышевского), то есть ранних славянофилов 1830–1840-х годов, проявивших себя в это «замечательное десятилетие», так обозначенное П. В. Анненковым. В эту пору расцвета славянофильского направления жили и действовали бок о бок с Герценом и Грановским люди выдающиеся — братья И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, братья К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев. К славянской партии примыкали профессора Московского университета и издатели «Москвитянина» — М. П. Погодин и С. П. Шевырев. К портретам и к историческому поведению славян в означенное время будем присматриваться, и, прежде всего, открыв сочинения Герцена.
В «Былом и думах» очерчена широкая панорама противостояния лагерей: «Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение…»
«Сначала в бой вступает „тяжелая пехота“» — Погодин и Шевырев — «сиамские братья московского журнализма». Герцен отдает дань «полезному профессору» и видному историку Погодину, но не оставляет без внимания его произведения, сочиненные «шероховатым, неметеным слогом», в подражание которому им уже написан едкий пародийный очерк «Путевые записки г. Вёдрина». Пристально следит он за всеми публикациями «Москвитянина» (не раз достанется от него и от Белинского этому журналу) и не оставляет без внимания «гнусные обвинения», почти что прямой донос, преподнесенный Шевыревым в статье о лекциях Грановского.
Герцен перелистывал только что доставленную, 12-ю, декабрьскую книжку журнала за 1843 год. 11 декабря записал в дневнике: «Неблагородство славянофилов „Москвитянина“ велико, они добровольные помощники жандармов. Они негодуют на Грановского за то, что он не читает о России (читая о средних веках в Европе), не толкует о православии, негодуют, что он стоит со стороны западной науки (когда восточной вовсе нет) и что будто бы мало говорит о христианстве вообще. Все это было бы их дело; но они кричат об этом так, что и Филарет начал толковать, хотят печатать в „Москвитянине“, что он читает по Гегелю etc».
Хорошо еще, что существует видимость публичности и Грановский с кафедры может ответить «Шевырке» и присным. 20 декабря 1843 года, окончив лекцию, Грановский обращается к аудитории: «Обвиняют, что я пристрастен к Западу, — я взялся читать часть его истории, я это делаю с любовью и не вижу, почему мне должно бы читать ее с ненавистью. <…> Если б я взялся читать нашу историю, я уверен, что и в нее принес бы ту же любовь. Гром рукоплесканий и неистовое bravo, bravo окончило его речь. <…> На этот раз публика была достойна профессора. И какая плюха доносчикам! Такие проявления… как они ни редки — радуют. Глядя на гам и шум, у меня сердце билось и кровь стучала в голову, есть-таки симпатии. Может, после этого, власть наложит свою лапу, закроют курс, но дело сделано…» Все это записано Герценом в тот же дневник, бездонный кладезь мыслей, сомнений, переживаний, набросков будущих писем и задуманных сочинений, из которого он будет черпать и черпать (кстати, предоставив шанс и будущему исследователю его биографии заглянуть в творческую лабораторию писателя-мемуариста).