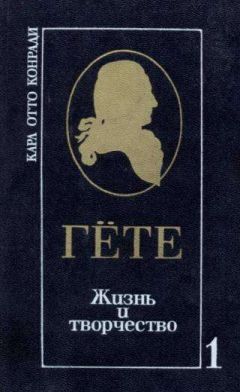Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
Стихотворения, созданные в «балладный год», отличает совершенство формы и глубина разрабатываемой в них тематики, они также больше по объему. К балладам примыкают остальные стихотворения этого рода, возникшие в последующие годы; среди них есть шутливые, рассчитанные на чтение в дружеском кругу и с детьми (например, «Крысолов», «Свадебная песня», «Странствующий колокол»).
Сюжеты некоторых своих баллад, как, впрочем, и некоторых других произведений, Гёте долго вынашивал, прежде чем художественно обрабатывал их. «Некоторые великие мотивы, легенды, предания седой старины так глубоко запечатлелись в моей душе, что я уже сорок-пятьдесят лет сохраняю их в себе живыми и действенными». В старческие годы, оглядываясь на прошлое, поэт называл среди таких сюжетов «Коринфскую невесту» и «Бога и баядеру» («Значительный стимул от одного-единственного меткого слова»). Но к написанию баллады мог подтолкнуть и случай, как нередко бывало с лирическими стихотворениями Гёте. Поэт сам обращал внимание на то, что некоторые из его вещей «возникли чуть ли не экспромтом» (К. Г. Кёрнеру от 20 июля 1797 г.). Одно не исключает другое. Любопытно рассмотреть подспудные мотивы в балладе «Кладоискатель». 21 мая 1797 года поэт записал в дневник: «Замечательная идея: дитя подносит кладокопателю сияющую чашу». Идея, вероятно, была подсказана гравюрой, воспроизведенной в главе «О кладах и находках» немецкого перевода сочинения Петрарки («De remediis utriusque fortunae» — «Зерцало утешения в счастии и в несчастии»). Так в стихотворении Гёте появился «дивный отрок», который с «чашей полной» предстает в полночь перед кладоискателем и заставляет его отказаться от глупой затеи, прочтя ему поучение:
Пей из кубка жизни ясной,
…
И не станешь в нетерпенье
О сокровищах скорбеть.
Позабудешь труд напрасный!
Дни — заботам! Смех — досугу!
Пот — неделям! Праздник — другу! —
Будь твоим заклятьем впредь.
(Перевод В. Бугаевского — 1, 279)
Гёте сам был тогда безрассудным «кладоискателем», и назидание «отрока» адресовалось и ему. Накануне того дня, когда была внесена в дневник упоминавшаяся запись, то есть 20 мая, Гёте через советника юстиции Хуфеланда заказал билет 116-го розыгрыша Гамбургской городской лотереи, прельстившись назначенным главным выигрышем, который будто бы состоял, как он прочел в объявлении, из 60000 марок и приобретения силезского имения Шоквиц. А 23 мая он послал Шиллеру, с которым часто виделся в те дни, своего «Кладоискателя». Значит, он тогда уже видел, что питало надежду на большой выигрыш: иллюзия, от которой надо было избавиться и в качестве противодействия которой выдвинуть трезвую и вместе с тем поэтически приукрашенную максиму. А Шиллера, который, по всей вероятности, был в курсе дела, баллада «позабавила тем», что по ней он «заметил, в какой именно Вы жили духовной атмосфере» (23 мая 1797 г. — Переписка, 275). С выигрышем, конечно, ничего не вышло. Заветное желание обладать поместьем побудило его использовать предоставившуюся возможность для покупки имения в Оберроссле, которое он приобрел в марте 1798 года. Лотерея во Франкфурте, всегда возбуждавшая интерес матери, никогда большого выигрыша, насколько нам известно, не приносила.
«Легенда», рассказанная в интонациях Ганса Сакса, исполнена глубокой иронии. «Наш господь» наклоняется, чтобы поднять с земли расколотую и как будто бы не имеющую никакой ценности подкову, мимо которой равнодушно прошел апостол Петр; на три пфеннига, вырученные за подкову у кузнеца, он покупает вишни, которые сгодились потом в дороге и утолили жажду. В старой манере в конце дается мораль:
Когда б ты потрудился наклониться,
Тебе б могла подкова пригодиться.
Кто мелочь без вниманья оставляет,
Тот сам от пустяка впоследствии страдает.
(Перевод А. Гугнина)
Это в назидание ленивым; бережливость, бюргерская добродетель утверждаются с помощью Иисуса, которого автор «Легенды» (сам, впрочем, не жалеющий денег на личные расходы) заставляет поднять с земли и приберечь кажущуюся безделку, преподнося тем самым урок всякого рода расточителям и мотам.
Иное содержание и смысл имеет «вампирическое стихотворение» «Коринфская невеста», начало работы над которым датировано записью в дневнике от 4 июня 1797 года. Мотив о пришельце с того света Гёте соединил здесь с мотивом о призраке-вампире и придал балладе, в основу которой положен заимствованный из античности сюжет о привидениях, историко-философское звучание: в балладе разоблачается пришедший с христианством аскетизм и презрение к жизни, и так явственно, что кое-кто из современников счел это до невозможности неприличным. Одни называли балладу, как свидетельствует падкий на всякую информацию Бёттигер, «омерзительнейшей из всех бордельных сцен» и возмущались содержавшимся в ней «осквернением христианства», другие находили ее «самым совершенным из всех стихотворений Гёте (Ф. фон Маттиссону от 18 октября 1797 г.).
Из языческих Афин в Коринф, в семью, принявшую крещение, поздним вечером приходит «юный гость», которого с дочерью этого дома некогда нарекли женихом и невестой; гостю оказывается благодушный прием, на ночь отводится покой. Но давно уже умерла от отчаяния невеста, ведь мать «во имя новой веры изрекла неслыханный обет»: «жизнь и юность» дочери «небесам отдать».[38] В эту ночь она, однако, возвращается, и юноша с нареченной невестой переживают сладостно-жуткие минуты любви. Девушка же, которая еще язычницей была обещана ему «именем Венеры», теперь осуждена — месть богини! — не только любить, но и «высосать его кровь»; так насильно подавленная в ней плоть должна торжествовать теперь в дико извращенной форме:
И, покончив с ним,
Я пойду к другим —
Я должна идти за жизнью вновь!
Только еще с одной просьбой обращается она к матери — извлечь ее из могилы и принести в жертву богам:
Так из дыма тьмы
В пламе, в искрах мы
К нашим древним полетим богам!
В этой балладе, построенной в форме перемежающихся монологических рассказов, исполненных постепенно нарастающего драматизма, и коротких диалогов, в которых воскрешается прошлое, обвиняется настоящее и таким образом воссоздается целостная картина событий, ужасы обнажены в таких потрясающих откровением языковых образах, что трудно представить возможность возникновения почти в одно и то же время с ней «бюргерской идиллии» с Германом и Доротеей. Мотив зловещего появлялся у Гёте уже в более ранних стихотворениях, как, например, в «Лесном царе» или «Рыбаке», пленяющих поэтичностью своих образов; но в них зловещее выступает как нечто неведомое, пугающее и притягивающее к себе человека своей таинственностью, а заключительная строфа совсем ранней баллады о «дерзком любовнике», бросающем свою невесту (позднее эта баллада получила название «Неверный парень»), позволяет лишь догадываться о страшном финале. В «Коринфской невесте», которая была написана, как это видно из дневника, за два дня, выступает наружу нечто такое, о чем следует поразмышлять впоследствии даже и в биографическом плане. Неприкрытое изображение ужасного было своего рода жалобой об утраченном; в «вампирическом стихотворении» ощущается дух Шиллеровых «Богов Греции»: