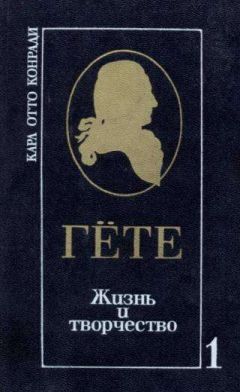Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
В это же время обмен мыслей с Шиллером привел к тому, что Гёте называл «наши занятия балладами» (XIII, 136). Занятия, впрочем, состояли преимущественно в поэтической практике: оба писали одну за другой баллады. В период с конца мая по начало июля 1797 года возникли баллады Гёте «Кладоискатель», «Легенда», «Коринфская невеста», «Бог и баядера», «Ученик чародея». Вместе со стихотворениями Шиллера «Поликратов перстень», «Перчатка», «Рыцарь Тогенбург», «Пловец», «Ивиковы журавли» и «На железный завод» они были напечатаны в «Альманахе муз» на 1798 год. Если «Альманах» на 1797 год приобрел известность «Ксениями», то «Альманаху» на 1798 год славу принесли баллады. Это был, как называл Шиллер, балладный год. Что привело к столь интенсивным занятиям балладами? Из писем прямо ничего узнать нельзя, тем более что к ним Гёте и Шиллер вообще прибегали только в тех случаях, когда не имели возможности встретиться в Йене или в Веймаре или когда хотели письменно запечатлеть что-то особенно важное. Дневник и поздние «Анналы» также не содержат ничего, что бы проливало свет на причины пробудившегося интереса к балладам. Тем не менее вопрос этот можно отчасти прояснить, если обратиться к их теоретическим размышлениям о поэзии. Как известно, предметом интенсивного обсуждения был характер эпического и драматического. Принципы, вырабатываемые при этом, оба опробовали в собственной художественной практике. В беседах и письмах неизменно затрагивался и вопрос о том, какие предметы наиболее пригодны для художественного освоения. Собственно, это был вопрос вопросов; ведь если искусство призвано нести смысл в самом себе (Гёте разделял мнение К. Ф. Морица, что одна из привилегий прекрасного в том, «что ему не нужно быть полезным», и Кант говорил об «удовольствии, свободном от всякого интереса»[37]). Если искусство, хотя оно, как и природа, подчинено высшим законам, выражало все-таки свою особенную художественную правду и если «стиль», которым должно обладать искусство, покоился на «самом существе вещей, поскольку нам дано его распознавать в зримых и осязаемых образах» (10, 28), то, стало быть, необходимо размышлять над тем, какие предметы могли быть пригодными для такого изображения. Сообщая Генриху Мейеру в Италию о завершении «Германа и Доротеи», Гёте разъяснял: «Сам предмет в высшей степени удачный, сюжет — какой, быть может, не находят дважды в своей жизни, как, впрочем, и вообще предметы для настоящих произведений искусства находят реже, чем это полагают; поэтому-то древние неизменно вращаются только в одном определенном кругу» (28 апреля 1797 г.). Спустя некоторое время он снова возвращается к той же теме: «Вся удача художественного произведения покоится на выразительном сюжете, который оно берется изображать» (Г. Мейеру от б июня 1797 г.). Насколько трудным был вопрос предметного отбора и в какие тупики могли заводить попытки решить его, если в результате были выведены односторонние предписания для художников-практиков, мы увидим, когда речь пойдет о строгих взглядах на искусство журнала «Пропилеи» (1798–1800) и о темах конкурсных работ, которые предлагались художникам в 1799–1805 годы «веймарскими друзьями искусства».
Баллады как нельзя лучше подходили для того, чтобы на относительно малом пространстве, в обозримых пределах стихотворения, опробовать эпическое и драматическое, а также испытывать и разрабатывать «выразительные сюжеты». Шиллер и он, сообщал Гёте в письме Г. Мейеру 21 июля 1797 года, хотели сохранить в балладе «тон и настрой лирического стихотворения», но сюжеты выбирать «более значительные и разносторонние». Сюда относилось и то, на что Гёте обращал внимание, когда разъяснял функцию пролога к «Лагерю Валленштейна» Шиллера: если древние поэты могли полагаться на знание «хорошо известных мифов», то «поэт нового времени» должен непременно давать экспозицию события (Г. Мейеру от 6 июня 1797 г.). Перед сочинителем баллады, в которой событие излагается в драматически напряженной форме, вставала та же задача. Таким образом, баллады рассматривались как испытательное поле для опробования художественных задач и возможностей. Поэтому в письмах Гёте и Шиллера соответствующие замечания касаются в основном технической стороны балладной разработки; подробно обсуждалось, «тщательно ли были продуманы мотивы и общее построение» того или иного стихотворения. Ни Гёте, ни Шиллер, разумеется, не намеревались выдвигать точное определение баллады или разрабатывать особый жанр баллады; Гёте называл их просто «повествовательными стихотворениями» (Шиллеру от 22 августа 1797 г. — XIII, 150).
Насколько свободно Гёте обходился с определением жанра баллады, показывает уже то, что стихотворения, являющиеся, без сомнения, балладами, он не поместил в раздел этого вида поэзии, когда издавал свои стихотворения. «Балладу» и «Парию», созданные в более позднее время, он поместил под рубрикой «Лирическое». Но, опубликовав стихотворение под названием «Баллада» в 1820 году в своем журнале «Об искусстве и древности», он почувствовал, что необходимо дать разъяснение, чтобы сделать его «более удобоваримым для читателей и певцов». В 1821 году, в следующем номере журнала, Гёте поместил «Разбор и объяснение» — иначе говоря, основательные примечания к названному стихотворению, которые с тех пор неизменно цитируются. «Баллада эта содержит в себе нечто таинственное, сама отнюдь не будучи мистической; это последнее свойство поэтического произведения заключено в его материале, первое же — в его трактовке. Таинственность баллады проистекает из способа ее произнесения». Так начинается этот «Разбор», целью которого было разъяснить читателям подвижную форму, смешение временных уровней, соединение различных способов выражения, функцию слегка варьирующейся строки, которой завершается каждая из строф («И радостно слушают дети»). Баллада оставляет пространство для всего этого многообразия, ведь именно оно определяет ее характер. Сочинитель баллады (певец) может «начать лирически, эпически, драматически и, меняя по желанию формы, продолжать, спешить к концу или отодвигать его все дальше и дальше. Припев, возвращение одного и того же заключительного звучания, придает этому виду поэзии решительно лирический характер.
Когда с этим всецело свыкнешься, что, видимо, имеет место в отношении нас, немцев, то баллады всех народов становятся понятными, ибо в определенные эпохи, друг другу современные или наступающие в разное время, человеческое сознание разрешает аналогичным способом аналогичные задания. Впрочем, можно было бы на примере избранных стихотворений этого рода прекрасно изложить всю поэтику, ибо здесь элементы еще не отделились друг от друга, но слиты вместе, словно в живом первояйце, которое должно быть только высижено, чтобы воспарить на золотых крыльях как некое чудесное явление» [I, 602].