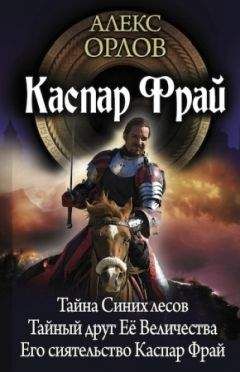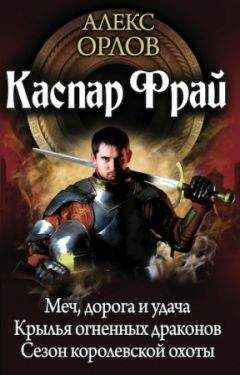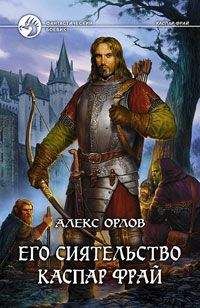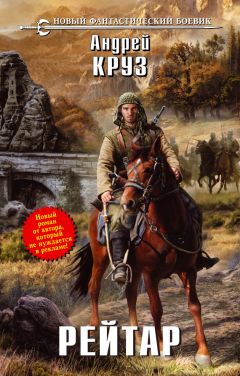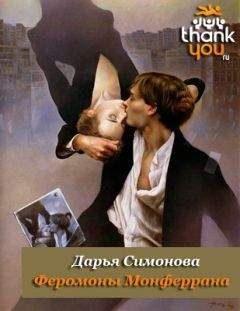Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
– Я ему, старому, отдыха теперь насчет вашего места не дам. Я ему теперь все уши прожужжу, а то ведь он сопеть любит! – горячился барон.
Желтая шкатулка раскрыла свои вместительные недра. Петр Феофилактович, счастливый сознанием, что и он наконец делается полезен своему доброму другу, вынимает улежавшиеся пачки кредиток и вручает их барону. Барон уверяет его, что он через неделю привезет ему деньги не иначе, как с процентами, и после крепкого лобзания последним целованием оставляет Петра Феофилактовича на жертву ярославской солдатки – съемщицы меблированных комнат, претендующей на звание мадамы, и ее угрюмой сподручницы – кривой бабы.
«Виды нашей прислуги». Чистильщик обуви. Рисунок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России
Сейчас сказал я «последним целованием» на том основании, что шеститысячным займом кончилось знакомство Петра Феофилактовича с интересным бароном фон Гюббелем. После этой истории мы видим их совершенно на разных дорогах. Петр Феофилактович, очень долгое время озабоченной походкой человека, отыскивающего потерянное, каждый день подходит к великолепному подъезду князя Рангоут-Брызгачева, где на его смиренный звонок обыкновенно выскакивает серьезный швейцар с неизбежной фразой: «Его сиятельство изволили выехать», или: «Его сиятельство не изволят принимать».
– А барон дома? – нерешительно спрашивает Петр Феофилактович.
– Я вам в прошлый раз докладывал, что барон изволили уехать за границу! – строго извещает швейцар и громко хлопает резной дверью подъезда.
Долго смотрел на эту историю соседский дворник, и вот однажды, отпустивши Петра Феофилактовича на некоторое расстояние от княжеского дома, он подбегает к нему и ведет такую речь:
– Напрасно, ваше благородие, вы ходите сюда. Здесь, судырь, страшные надувалы живут. Они себя князьями и графами величают, только все это они, мошенники, врут. Старик-от сам, который что князем себя называет, точно что дворянин, а около-то него такие, самые что ни есть сквозные, мошенники. К ним так-то иной день человек сто приходят звонить. Не вы одни…
Петр Феофилактович скоро покорился своей участи.
– Бог даде, Бог и отъя! – сказал он и смирно стал у Иверских ворот в ряды обыкновенных людей этих ворот, и порой вы можете видеть и слышать, как важно подходит он к какому-нибудь приходящему и с сознанием своего достоинства начинает говорить:
– Государь мой! помощью своей милостивой мошеннического и бесстыдного обмана жертву осчастливить соблаговолите.
А в другое время, ежели вам это нравится, полюбуйтесь на него в соседней полпивной, где он, блистая своими медными пуговицами на изношенном вицмундире, кутит на собранные гроши, так что ни содержатель полпивной, ни его прислуга, ни даже сам полицейский ундер не могут безнаказанно подступиться к надворному советнику и ордена Св. Станислава третьей степени кавалеру Петру Феофилактовичу Зуйченко.
Барон фон Гюббель, раззнакомившись с Петром Феофилактовичем, не раззнакомился, однако же, с нами. Мы и теперь не упускаем его из виду. По последним известиям из большого света – арены его подвигов, слышно, что князь Рангоут-Брызгачев, утомившись своей многотрудной деятельностью, ухитрился выйти в более светлое море других спекуляций, на первый взгляд весьма честных и полезных, место же свое – атамана мошеннической шайки, передал своему юному другу, барону фон Гюббелю, который, впрочем, на самом деле есть не кто другой, как беспаспортный рижский мещанин Карл Гильз.
Есть надежда, что сей Карл, или Карлушка, достойным образом заместит князя Рангоут-Брызгачева, ибо на официальном вечере, который князь давал всей своей шайке по случаю передачи им Карлуше своих атаманских регалий, последний сказал следующий назидательный спич:
«Господа! По-настоящему я должен был бы начать мою речь торжественной клятвой, что мой метод ведения наших общих дел будет такого, так сказать, беспромашного свойства, что никогда не затемнит блеска этих регалий, которые сделал мне честь передать мой уважаемый предшественник, князь Рангоут-Брызгачев. Но я не начну моей речи такой клятвой, потому что, смею думать, и без моей клятвы все вы единодушно уверены, что промахов с моей стороны быть никогда не должно. Поэтому я вам скажу только то, что скажу. Вам всем известно, что я очень и очень малограмотен, но во всяком случае, не настолько, чтоб отказаться от какой-нибудь сделки даже и по книжной торговле. На днях я так и поступил, т. е. не отказался от сделки, предложенной мне одним здешним книгопродавцем. Поясняя, в чем именно состояла эта сделка, я должен сказать вам, что я просто-напросто, по счастливому течению судеб, заграбастал у него книг рублей на тысячу. Но сила не в этом. В числе книг, подброшенных мне благоприятствующей судьбой, было сотни три экземпляров сочинений какого-то господина Павлова. Несколько таких экземпляров, какие побольше поизмялись, я оставил себе собственно для ради домашнего обихода. Мучимый однажды бессонницей, я схватил первое, до чего с кровати могла достать рука моя, и достал повесть означенного Павлова, озаглавленную «Миллион»{225}. Там случайно дочитался я до такой великолепной мысли: «Я отдам на растерзание мое тело, я оскверню мою душу каким хотите пороком, я спою с кругу весь мир, я, пожалуй, пойду в герои добродетели, ежели это вам нравится, только заплатите мне». Отныне, господа, это мой девиз. Господа! заканчивая мою речь, я спрашиваю вас, справедливы ли после того все надежды, которые вам угодно было возложить на меня?»
Общество в полном энтузиазме. Общество поощряет громкими «ура» слова своего юного патрона; князь же, как истинно великий человек, подошедши к Карлуше, возлагает свою руку на его голову и произносит:
– Друг мой! Будь всегда таким. Смолоду я сам был такой же. А теперь устал, теперь хочу отдохнуть…
Нравы московских девственных улиц
(писано, памятуя о погибшем друге)
I
Иван Сизой матушке Москве Белокаменной, по долгом странствовании вне ее, здравия желает, всем ее широким четырем сторонам низкий поклон отдает.
Год с лишком шатался я по разным местам, а все нигде не видал того, что я так люблю в Москве, – это ее глухих, отдаленных от центра города улиц, которые давно как-то назвал девственными, с их, так влекущей к себе сердце мое, поразительной и своеобразной бедностью.
Конечно, этого добра, т. е. бедности, нам не занимать стать, и, как я сказал уже, больше года шатаясь по деревням и селам, по городам и красным пригородам, я имел-таки немало случаев видеть голод и холод в мещанских хороминах, молчаливое и безустанно работающее уныние в мужицких избах; но это что же за бедность? Лица не московские, пораженные этой болезнью, не живые лица, а как бы каменные статуи, изображающие собой беспредельное горе, и я только плачу втихомолку, когда такая статуя окинет меня своими впалыми, без малейшего признака слез, глазами. Плачу, говорю, и вместе с тем глубоко страдаю от той нравственной боли, которой всегда уязвляют мою душу эти глаза, ибо в них мои собственные глаза имеют способность читать такого рода красноречивую вещь: