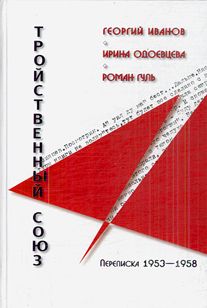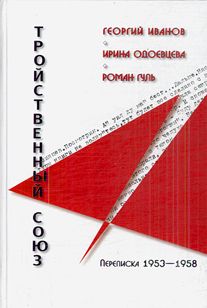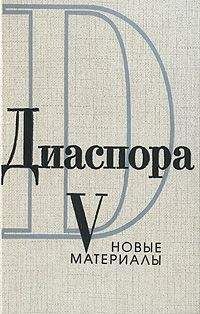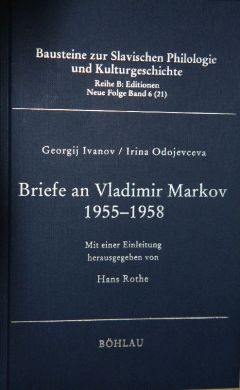Ирина Муравьева - Ханс Кристиан Андерсен
Это разъяснение было адресовано той части народа, которая сохраняла уважение к королевской власти. Но национал-либералы использовали его как козырь в своей агитации против восставших герцогств. Датский народ был ослеплен словом «свобода», заманчиво сияющим в речах, стихах и памфлетах национал-либералов, и не замечал, что оно каким-то волшебным путем означает «порабощение», когда речь идет о Шлезвиге.
«Отечество в опасности! Все, без различия политических мнений, должны подняться на борьбу с мятежниками!» — призывали национал-либералы. Им удалось сыграть на патриотических чувствах датчан: в армию, спешно снаряжаемую новым военным министром Чернингом, хлынул поток добровольцев. Конечно, среди них были и убежденные «эйдер-датчане», но добровольцы из народа просто не понимали, что идут убивать и умирать за интересы датской буржуазии.
9 апреля 1848 года армия герцогств с принцем Нором во главе встретилась с датскими войсками. Произошла кровавая битва, в результате которой повстанцы были смяты и отброшены далеко назад, а датская армия вышла к Эйдеру.
Тогда в дело вмешалась Пруссия, в свою очередь заинтересованная в захвате герцогств. По иронии судьбы на помощь восставшим пришла та самая армия, которая только что залила улицы Берлина кровью народа. Теперь черед отступать был за датчанами. Прусские войска заняли не только Шлезвиг, но и часть Ютландии.
Русский царь Николай I встал на сторону Дании: его возмутило, что прусский король поддержал восстание против законного монарха, когда Европа и так полна революционным брожением. После того как Пруссия заключила с Данией мир, датская армия в июле 1849 года разгромила армию герцогств и вернулась в Копенгаген. Война окончилась, но шлезвиг-гольштейнская проблема осталась неразрешенной.
«Поэт Андерсен думает только о себе, он не замечает того, что происходит вокруг», — говорили многие. Андерсена справедливо обижало такое мнение. Чрезмерная занятость собой — это была одна из болезней его юности, которую он преодолел. Она вызывалась прежде всего необходимостью бороться за себя каждый час, каждую минуту, чтоб не пойти ко дну. Иной раз некогда было оглянуться кругом. Но даже и тогда, конечно, он думал не только о самом себе. Если бы это было так, его талант давно бы перестал развиваться и сказки не могли бы возникать, ведь их источником была жизнь!
Всем существом он с необычайной быстротой откликался на малейшее впечатление и не умел быть равнодушным. Но далеко не на все, что его волновало, он находил ясный и четкий ответ. Противоречия обступали его с разных сторон. И в предвоенные годы он ощущал их с большой остротой.
В 1845 году, наблюдая растущий конфликт с Германией, он с болью писал Эрстеду: «Меня мучит, что прекрасные люди должны из-за обоюдного непонимания враждовать между собой». Поэт Хемниц подарил ему на память свою песню, призывавшую Шлезвиг и Гольштейн «теснее сплотиться», и он принял подарок, не видя в идее песни ничего дурного. Со своим немецким издателем Лорком он говорил о том, как хорошо было бы мирно решить все конфликты. У него было немало приятелей в Шлезвиге и Гольштейне (к их числу принадлежал и герцог Аугустенборг). А в Копенгагене он встречался со своим старым товарищем по университету Орла Леманом, с которым они вместе когда-то «открывали» Гейне. Он стремился сохранить равновесие в отношениях, но это становилось все трудней.
В Германии он сидел как на иголках, когда разговор заходил о Шлезвиге: там возмущались датчанами и часто, по его мнению, преувеличенно.
В Копенгагене от него требовали, чтоб он кричал «Дания до Эйдера!» и поносил немцев, — этого он тоже не мог сделать: шовинизм был ему глубоко чужд. Германия была для него страной великих писателей и музыкантов, и это вовсе не мешало ему искренне и горячо любить Данию: родной народ, язык, природу. Но воинственные настроения национал-либералов были ему совсем не по душе.
Он вспоминал легенду о седобородом Хольгере Датчанине, который спит в подземелье замка Кронборг и поднимается тогда, когда его родине грозит серьезная опасность. В сказке «Хольгер Датчанин» он развивал свое понятие патриотизма: Дания может гордиться многими героями — это те, кто «любовно помогал людям словом и делом». Герб Дании — лев и сердце — это сила и милосердие, неразрывно слитые.
А сила — далеко не только сила меча. Можно сражаться пером и резцом, как Гольберг и Торвальдсен. «Да, Хольгер Датчанин может проявиться в разных образах и прославить Данию на весь мир».
Слава героям, пожертвовавшим жизнью, защищая Данию, а лучше всего, когда царит мир и взаимное понимание между людьми!
«Это все общие слова, — говорили ему, — а вот вы отвечайте прямо: кому должен принадлежать Шлезвиг, немцам или датчанам?
И тут Андерсен, конечно, становился в тупик: решить этот вопрос было не под силу не только поэту, но и многим искушенным политикам; к претензиям обеих сторон прибавлялись еще сложнейшие споры о престолонаследии в герцогствах.
Недаром впоследствии лорд Пальмерстон острил: «Во всей Европе было только три человека, разбиравшихся в шлезвиг-гольштейнском вопросе: принц Альберт, один старый датчанин и я. Но принц Альберт, к сожалению, умер, старый датчанин сидит теперь в сумасшедшем доме, а я совершенно забыл, в чем там дело».
Но Андерсену отказ от определенного ответа не прощался: окружающие то и дело корили его за «недостаток патриотизма». Даже его юная приятельница Ионна Древсен, которой он недавно еще рассказывал сказки, говорила, что он недостаточно горячо относится к «датским интересам».
«Может быть, это следствие того, что я хочу быть справедливым ко всем, дорогая Ионна, — грустно отвечал он ей. — Разве это преступление?»
Слово «политика» прежде всего связывалось для него с запутанностью шлезвиг-гольштейнской проблемы, а «господа политики» — это национал-либералы, грызущиеся с консерваторами за «кусок пирога». Отсюда шли его жалобы, что «все теперь стало политикой», и уверения, что она «остается для него сплошным туманом». Он не сказал бы этого, если б защита равноправия наций и их мирного сотрудничества считалась тогда тоже определенной политической позицией.
Разразившаяся война была для него тяжелым испытанием. Конечно, он был всей душой против того, чтобы споры стран решались силой оружия. Но его поколебал вид возбужденных толп народа, рвущихся «защищать родину от опасности». И он вместе с ними поверил, что эта война справедливая, оборонительная. Все классы общества объединены патриотическим порывом, с этим нельзя не считаться, думал он, глядя, как добровольцы в солдатских мундирах гуляют под руку с дамами в изысканных туалетах. И он написал письмо в английскую газету о происходящих событиях: «Знатные люди и крестьяне, исполненные сознания правоты своего дела, идут добровольцами в армию», — говорилось там. Но в этом письме о войне прорывалась страстная мечта о мире: «Нациям — их права, всему доброму и полезному — процветание — это должно стать лозунгом Европы, с этим я смотрю с надеждой на будущее».