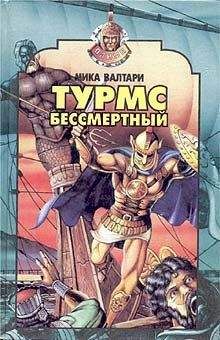Петр Вершигора - Рейд на Сан и Вислу
Руднев вдруг разобиделся, но не на меня, а на Ковпака:
— Замолчи! Ты что? Может, если бы не эта интеллигенция, и тебя с твоим геройством не было бы. Вот они, вокруг тебя, — Базыма, Войцехович, Тутученко, Матющенко, Пятышкин, Ленкин — это же все образованные люди. Советской властью образованные. Да и я… Тоже ведь всю жизнь науку большевистскую изучал. А сам–то ты кто? Лапоть?.. Ну, провинился Петрович. Так с него одного и спрос, а на всех интеллигентов словами такими не кидайся. Не загибай влево, командир. А то ведь мы и поправить можем… Тоже не шилом выструганы, — закончил он с улыбкой.
Успокоившись немного и оглядевшись после этой сцены, я лучше понял особенности новой обстановки, в которой оказался наш отряд.
Там, на коренной части Украины, было проще: есть немцы — их надо бить; есть народ, ненавидящий врага, — на него надо опираться; и есть мы — партизаны, слуги и защитники народа, помощники Красной Армии в тылу врага.
А вот когда летом 1943 года мы впервые вступили в Галицию, меня вдруг и подвела моя, как выразился Ковпак, «интеллигентщина». Он был прав, когда так ругался. Мой промах не мог не вызвать негодования у старого коммуниста, давшего мне рекомендацию в партию. Сейчас я готов был даже расстрелять бандеровку, но вопрос о ней, как говорится, вышел из моей компетенции. Нужно было ждать решения старших. А они, поспорив немного, посмеиваясь, перешли к другим, более существенным делам.
Вспоминая мимолетную перепалку комиссара с Ковпаком, я чувствовал, что все это было сделано для меня.
«Воспитывают!»
Неловко, конечно, сознавать, что люди вынуждены заниматься твоим воспитанием, когда тебе под сорок, когда ты кончил два вуза. Но вузы–то вузами, а это — сама жизнь.
Через день я еще раз увидел Наталку.
— А що я хочу у вас спросить, пан полковник, — неожиданно льстиво улыбнулась она. — Нельзя мне совсем в санчасть перейти?
Возле нас были бойцы, а она болтала еще что–то, идя со мной рядом. Говорила всякие пустяки. Я понял: хочет поговорить наедине. Ну что ж, пожалуйста!
Когда мы отошли, Наталка вперилась в меня глазами:
— Слушайте. Верните мне мое честное слово.
Я удивился:
— Зачем?
— Сегодня ночью буду бежать.
— Но если я верну слово, то прикажу усилить охрану.
— Все равно, верните.
— Нет, не верну. Когда надо будет бежать, сам вам об этом скажу.
— Добре, — шепнула она мне, как заговорщику.
Я зашагал к штабу. «Вот как? Она уже считает меня своим сообщником. А игрушки с честным словом — это прием, чтобы укрепить доверие к себе».
В штабе еще раз просмотрел в записной книжке результаты первых допросов.
Да, мои разведчики и я сам упустили главное. А вот Руднев сразу схватил быка за рога:
— Биографию ее узнал?
Я рассказал.
— Понятно. Вот они — последыши уничтоженного класса! Оживают, согретые пожаром войны и фашизма…
Водворив на место свою записную книжку, я опять направился к Рудневу:
— Семен Васильевич! Сегодня ночью Наталка будет бежать.
— Ишь ты, — усмехнулся Руднев. — А я так и не успел ее поглядеть. Что за птаха?
— Птица с коготками, товарищ комиссар. Решайте…
Ушел от комиссара, чертыхаясь про себя и злясь. Злился на себя за свое временное очарование фальшивым мужеством фанатички. Почему только теперь усвоил, что враг может быть иногда и красив, и мужествен, но от этого он не становится лучше? Наоборот: такой враг опаснее!
Руднев часто говорил:
— Ты не представляй себе врага так, как его на плакатах рисуют. В жизни тебя могут подстерегать бандиты, нисколечко не обезображенные трактовкой художника. Без лохматой шевелюры и выщербленных зубов…
Как же я попался на этот крючок?
Вот что было обидно!
Конечно, в мирное время такому человеку, как Наталка, можно оставить жизнь. И даже попробовать перевоспитать.
А на войне?
Пусти этого микроба, ядовитого и обаятельного, в красивой шелухе «идей», — сколько нестойких людей сшибет он с пути своим фанатизмом!..
К вечеру, не колеблясь и не копаясь больше в психологии, я вызвал караульного начальника:
— Усилить наблюдение за этой черноглазой. При первой попытке к бегству — стрелять!
Но «важная птаха», как окрестил ее Михаил Кузьмич, тоже не бросала слов на ветер. На рассвете начались тяжелые бои, затянувшиеся на много дней. И, воспользовавшись суматохой, Наталка исчезла.
Эта женщина, необычная по своему поведению и натуре, запомнилась. И не одному мне. В отряде ее вспоминали долго, и многие.
История с ней походила чем–то на горное эхо. Мы хорошо знали, как капризно звучат выстрелы в горах, сбивая с толку самое опытное партизанское ухо. И вдруг это эхо опять воплотилось в живую Наталку.
Я подозвал к себе Шумейко:
— Садись к нам в сани, товарищ замполит.
— Ничего, я потрясусь верхом, — отозвался он и почему–то взял под козырек ни к селу ни к городу.
— Где же вы поймали ту тернопольскую «птаху»?
— Ловить не пришлось. На хуторе она лежит, еле живая.
— Поглядеть страшно, — подтвердил комбат Токарь.
— Работа ихнего «эсбэ», — уточнил Шумейко и замолчал.
«Эсбэ», или «служба беспеки», — самый страшный орган бандеровщины, ее контрразведка. Комплектовалась эта «беспека» из отпетых типов: кулачья и уголовников, выпускников иезуитских школ. Они душили людей кожаными поясами, вскрывали черепа скалками для раскатки теста, дробили кувалдами суставы, выкалывали пальцем глаза и, не дрогнув, резали детей кухонными ножами…
Мы приехали на хутор. Токарь попросил пока не тревожить батальон. Люди отдыхали после тяжелых маршей и боев.
— Может, пройдем до той Наталки? — предложил Шумейко. — А то доктор Никитин докладывал: дюже она плоха. Все внутренности отбиты.
Я согласился, и мы зашли в указанную Шумейко хату. Дверь нам открыла старуха в очипке и вылинявшей запаске — старинной одежде украинских женщин. Она узнала Шумейко и на немой вопрос его черных глаз прошамкала беззубым ртом:
— Мабуть, уже доходит…
Наталка лежала в светелке на топчане, под тулупом до самого подбородка. Глаза, обведенные синими кругами, были закрыты. Мертвенная бледность, испарина и горячечное дыхание говорили о ее тяжелом состоянии. Старуха обтерла ей лоб вышитым рушником.
— Пить, — прошептала Наталка. И, когда бабка напоила ее кислым молоком, приоткрыла глаза.
Подернутые предсмертной тоской зрачки вдруг вспыхнули не то от ужаса, не то от радости.
— Вас узнала, — мрачно сказал Шумейко.
Я наклонился над ней. Сказал что–то успокоительное. Но строптивая бандеровка не могла теперь говорить, да и вряд ли понимала мои слова. Запах разлагающейся крови был так силен, что я через несколько секунд отпрянул на середину светелки, чтобы вдохнуть чистого воздуха. Старуха с крынкой молока тоже отошла к дверям и тихо открыла их.