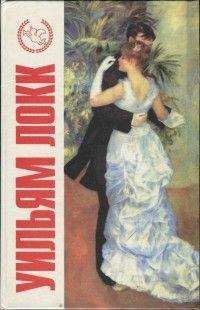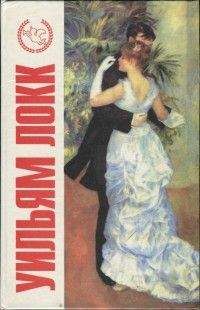Лев Славин - Ударивший в колокол
И Герцен приходит к тому, о чем он впоследствии сказал с горечью: «Я ошибался и дорого заплатил за ошибку», — он приходит к идее суда чести: пусть Гервегу вынесут приговор представители международной демократии.
Конечно, это была большая ошибка большого человека, промах блестящего ума, заблуждение гения.
Идея суда чести далеко не всеми была принята благожелательно. Некоторым она показалась странной. Ведь на таком «суде» неизбежно пришлось бы предать гласности подробности семейной драмы Герценов и осветить роль в ней Гервега. Благородная в теории идея суда чести могла на практике выродиться в мелкотравчатое копание в пошлых сплетнях.
Маццини, например, при всей своей привязанности к Герцену, прямо заявил: «Лучше было бы покрыть все молчанием…»
Натали, ознакомившись с письмом Гервега, ответила ему возмущенным письмом. Она вложила в него всю свою израненную душу: «Ваши доносы, ваши клеветы против женщины вселяют Александру одно презрение к вам. Вы обесчестили себя этой низостью… Вы мне сделали отвратительным самое прошлое…»
Письмо это Гервег вернул нераспечатанным. Но по некоторым деталям вскоре выяснилось, что он его читал. Однако в первый момент это оставалось неизвестным, и Натали обратилась к нескольким друзьям с просьбой отвезти ее письмо к Гервегу в Цюрих и там его прочесть вслух лично ему в присутствии свидетелей.
В Цюрих поехали Гауг и Тесье дю Моте. Эрнст Гауг, бывший австрийский офицер, революционер, смертник, генерал, как все звали его, действительно получил чин генерала из рук самого Гарибальди. Вспыльчивый и нетерпимый, отважный до самозабвения, именно он взялся прочесть Гервегу письмо Натали. Его спутник Мари Эдмонд Тесье дю Моте, больше ученый, чем политик, все же участвовал в революции сорок восьмого года и здесь, в эмиграции, был членом комитета демократов-социалистов.
В Цюрихе к ним присоединился Август Гофштеттер, офицер швейцарского штаба, как нейтральный свидетель, не знакомый ни с Герценом, ни с Гервегом.
Они вошли к Гервегу внезапно.
Увидев вошедших, Гервег побледнел и принялся неловко пятиться в дальний угол.
Своим ровным лекторским голосом Гауг начал читать письмо Натали. Вот тут-то и выяснилось, что Гервег вопреки своей лжи письмо читал, а потом подделал его под нераспечатанное, да по неосторожности забыл в нем свою записку.
Записку эту Гауг разорвал и клочья швырнул Гервегу в лицо.
Вероятно, со времени своего знаменитого баденского драпа Гервег не впадал в такой припадок трусости. Он завопил:
— Режут! Жандармы!
Тут Гауг не выдержал и наградил баденского героя полновесной пощечиной. После чего, считая свою дипломатическую миссию законченной, три посланца удалились.
Через некоторое время один из друзей Герцена известил его, что Гервег днем «не выходит — настолько он оплеван».
Что касается «суда чести», то, как и следовало ожидать, ничего из этой затеи не вышло. Однако странное заблуждение Герцена длилось. Впервые в связи с этим у него мелькает мысль о поездке в Англию, где находились многие видные представители революционной эмиграции.
Но в эти дни он был прикован к постели смертельно больной Натали.
Герцен не отходил от нее, сам топил камин, никому не доверял давать ей лекарства, сам отмеривал их с величайшей точностью. Своими сильными руками выжимал из апельсинов сок и поил им Натали из ложечки.
Когда она забывалась в тревожном, прерывистом сне, он подходил к окну. Весна, но какие-то преждевременно пожелтевшие мокрые листья лежали на тротуаре как впечатанные. Грустно? Нет, безнадежно…
Он принял ее последний вздох… Но ведь это уже не она. Он сказал глухим, словно не своим голосом:
— Она не тут; здесь ее нет, она жива во мне…
Только через два месяца он пришел в себя. Он решил наконец осуществить свою прежнюю идею.
— Я помимо всего должен сделать это во имя памяти о ней.
Речь шла о «суде чести».
С другом, Эрнстом Гаугом, и с сыном Сашей он выезжает в Лондон.
Когда они пересекали Ла-Манш, был момент, когда корабль, подчиняясь этому странному оптическому обману, казался неподвижным, а далекий берег, напротив, приближался к кораблю.
Вот и сейчас Герцену казалось, что Англия мощно надвигается на них меловыми утесами Дувра, копотью городов, хартией вольности, кургузыми дилижансами с возницами, восседающими на высоких облучках, в просторных балахонах с восемью пелеринами, спикерами и биллями, неприкосновенностью жилищ, индусами в тюрбанах, расхаживающими по разным там Пиккадили, вонью Темзы и зелеными лугами невыразимой нежности…
— Папа, нам хватит недели осмотреть все достопримечательности? — спросил Саша.
Гауг удивился:
— Как, вы в Англию только на неделю?
— Да, — устало сказал Герцен, — несколько деловых свиданий, на это хватит и пяти дней.
Он не подозревал, что останется в Англии на двенадцать лет.
— Я думал, вы здесь поработаете, — заметил Гауг.
— Я не могу работать в иноязычной стране.
Он не предвидел, что именно здесь он создаст свою величайшую книгу «Былое и думы».
— В Англии никто друг другу не мешает работать.
— Здесь нет места ничему новому, это страна застывших традиций.
Он не знал, что именно здесь впервые в мире родится свободное русское слово и звон «Колокола» прозвучит на всю крепостную Россию.
My dream[44]
Впрочем, подождем: посмотрим, что скажет русский народ: пора ему показать себя.
ПечеринА ведь было так, что, только ступив на землю Англии, Герцен сказал:
— Теперь я уже и не жду ничего…
И потом, устроившись на квартире в квартале Чаринг-Кросс:
— И теперь я сижу в Лондоне, куда меня случайно забросило, и остаюсь здесь, потому что не знаю, что из себя делать…
Что ж, значит, Герцен обманывал себя? Ведь не случайно, не в каком-то бессознательном трансе переплыл он Ла-Манш. Никогда он не позволял себе быть игрушкой случая. В состав его натуры входили энергия и целеустремленность.
Он знал, для чего едет в Лондон: для устройства суда чести над Гервегом. И то, что эмиграция отнеслась к этому холодно — одни с вежливым равнодушием, другие с удивлением, третьи с откровенной насмешкой, — изрядно добавило горечи в его и без того смятенную душу. Возможно, что именно в одну из таких горьких минут вырвалось у него замечание: «…эмиграции разбивались на маленькие кучки, средоточием которых делались имена, ненависти, а не начала… новый цех — цех выходцев — складывался и костенел…»