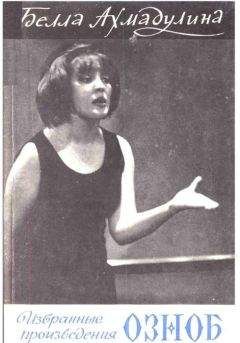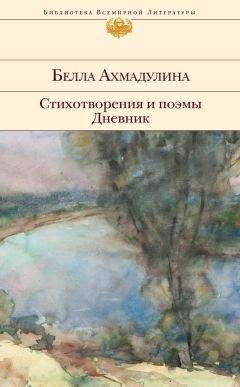Белла Ахмадулина - Поэзия народов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной
Фазилю Искандеру[289]
Как будто сон тягучий и огромный,
клубится день огромный и тягучий.
Пугаясь роста и красы магнолий,
в нём кто-то плачет над кофейной гущей.
Он ослабел — не отогнать осу вот,
над вещей гущей нависает если.
Он то ли болен, то ли так тоскует,
что терпит боль, не меньшую болезни.
Нисходит сумрак. Созревают громы.
Страшусь узнать: что эта гуща знает?
О, горе мне, магнолии и горы.
О море, впрямь ли смысл твой лучезарен?
Я — мертвый гость беспечности курортной:
пусть пьет вино, лоснится и хохочет.
Где жизнь моя? Вот блеск ее короткий
за мыс заходит, навсегда заходит.
Как тяжек день — но он не повторится.
Брег каменный, мы вместе каменеем.
На набережной в заведенье «Рица»
я юношам кажусь Хемингуэем.
Идут ловцы стаканов и тарелок.
Печаль моя относится не к ним ли?
Неужто всё — для этих, загорелых
и ни одной не прочитавших книги?
Я упасу их от моей печали,
от грамоты моей высокопарной.
Пускай всегда толпятся на причале,
вблизи прибоя — с ленью и опаской.
О Море-Небо! Ниспошли им легкость.
Дай мне беды, а им — добра и чуда.
Так расточает жизни мимолетность
тот человек, который — я покуда.
1979
НАДПИСЬ НА КНИГЕ: 19 ОКТЯБРЯ
Фазилю Искандеру
Согласьем розных одиночеств
составлен дружества уклад.
И славно, и не надо новшеств
новей, чем сад и листопад.
Цветет и зябнет увяданье.
Деревьев прибылен урон.
На с Кем-то тайное свиданье
опять мой весь октябрь уйдёт.
Его присутствие в природе
наглядней смыслов и примет.
Я на балконе — на перроне
разлуки с Днём: отбыл, померк.
День девятнадцатый, октябрьский,
печально щедрый добродей,
отличен силой и окраской
от всех, ему не равных, дней.
Припёк остуды: роза блекнет.
Балкона ледовит причал.
Прощайте, Пущин[290], Кюхельбекер[291],
прекрасный Дельвиг мой, прощай!
И Ты… Но нет, так страшно близок
ко мне Ты прежде не бывал.
Смеётся надо мною призрак:
подкравшийся Тверской бульвар.
Там дома двадцать пятый нумер
меня тоскою донимал:
зловеще бледен, ярко нуден,
двояк и дик, как диамат.
Издёвка моего Лицея
пошла мне впрок, всё — не беда,
когда бы девочка Лизетта
со мной так схожа не была.
Я, с дальнозоркого балкона,
смотрю с усталой высоты
в уроки времени былого,
чья давность — старее, чем Ты.
Жива в плечах прямая сажень:
к ним многолетье снизошло.
Твоим ровесником оставшись,
была б истрачена на что?
На всплески рук, на блёстки сцены,
на луч и лики мне в лицо,
на вздор неодолимой схемы…
Коль это — всё, зачем мне всё?
Но было, было: буря с мглою,
с румяною зарёй восток,
цветок, преподносимый мною
стихотворению «Цветок»,
хребет, подверженный ознобу,
когда в иных мирах гулял
меж теменем и меж звездою
прозрачный перпендикуляр.
Вот он — исторгнут из жаровен
подвижных полушарий двух,
как бы спасаемый жонглёром
почти предмет: искомый звук.
Иль так: рассчитан точным зодчим
отпор ветрам и ветеркам,
и поведенья позвоночник
блюсти обязан вертикаль.
Но можно, в честь Пизанской башни[292],
чьим креном мучим род людской,
клониться к пятистопной блажи
ночь напролёт и день-деньской.
Ночь совладает с днём коротким.
Вдруг, насылая гнев и гнёт,
потёмки, где сокрыт католик,
крестом пометил гугенот[293]?
Лиловым сумраком аббатства
прикинулся наш двор на миг.
Сомкнулись жадные объятья
раздумья вкруг друзей моих.
Для совершенства дня благого,
покуда свет не оскудел,
надземней моего балкона
внизу проходит Искандер.
Фазиля детский смех восславить
успеть бы! День, повремени.
И нечего к строке добавить:
«Бог помочь вам, друзья мои!»
Весь мой октябрь иссякнет скоро,
часы, с их здравомысльем споря,
на час назад перевели.
Ты, одинокий вождь простора,
бульвара во главе Тверского,
и в Парке, с томиком Парни[294]
прости быстротекучесть слова,
прерви медлительность экспромта,
спать благосклонно повели…
19 и в ночь на 27 октября 1996
«Смеркается в пятом часу, а к пяти…»
Илье Дадашидзе[295]
Смеркается в пятом часу, а к пяти
уж смерклось. Что сладостней поздних
шатаний, стояний, скитаний в пути
не так ли, мой пёс и мой посох?
Трава и сугробы, октябрь, но февраль.
Тьму выбрав, как свет и идею,
не хочет свободный и дикий фонарь
служить эдисонову[296] делу.
Я предана этим бессветным местам,
безлюдию их и безлунью,
науськавшим гнаться за мной по пятам
поземку, как свору борзую.
Полога дорога, но есть перевал
меж скромным подъемом и спуском.
Отсюда я вижу, как волен и ал
огонь в обиталище узком.
Терзаясь значеньем окна и огня,
всяк путник умерит здесь поступь,
здесь всадник ночной придержал бы коня,
здесь медлят мой пёс и мой посох.
Ответствуйте, верные поводыри:
за склоном и за поворотом
что там за сияющий замок вдали,
и если не замок, то что там?
Зачем этот пламень так смел и велик?
Чьи падают слёзы и пряди?
Какой же избранник ее и должник
в пленительном пекле багряном?
Кто ей из веков отвечает кивком?
Чьим латам, сединам и ранам
не жаль и не мало пропасть мотыльком
в пленительном пекле багряном?
Ведуний там иль чернокнижников пост?
Иль пьется богам и богиням?
Ужайший мой круг, мои посох и пёс,
рванемся туда и погибнем.
Я вижу, вам путь этот странный знаком,
во мгле что горит неусыпно?
— То лампа твоя под твоим же платком,
под красным, — ответила свита.
Там, значит, никто не колдует, не пьет?
Но вот, что страшней и смешнее:
отчасти мы все, мои посох и пёс,
той лампы моей измышленье.
И это в селенье, где нет поселян, —
спасенье, мой пёс и мой посох.
А кто нам спасительный свет посылал —
неважно. Спасибо, что послан.
Октябрь-ноябръ 1979 Переделкино